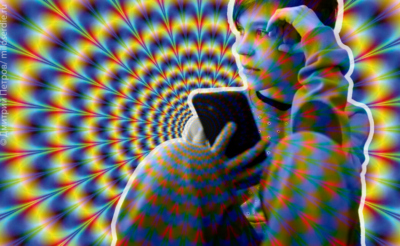Как защитить ребенка-инвалида от его здоровых сверстников?
Василий Сухомлинский, гениальный советский педагог, как-то говорил, что в каждом классе должен быть один «больной ребенок» – затем, чтобы остальные – здоровые – вочеловечивались. «Искусство облагораживания ребенка высшими чувствами является искусством сопереживания», – писал он. Сухомлинский, безвременно умерший в 1970-м, выражений «инклюзивная педагогика» или «интеграция детей с особыми потребностями в общеобразовательную среду» слыхом не слыхивал, зато успел рассказать о своем опыте реальной инклюзии – о том, как весь класс ходил к обезножевшему мальчику Петрику, не знавшему к семи годам, как выглядит лес и ручей, и как дети носили Петрика на руках в лес, к ручью, и читали ему книжки, и постепенно он начал учиться в школе и стал «одним из нас». Деревенская послевоенная школа, маленький класс, маленький мир. И – никаких инвестиций, кроме душевных.
Наши дни. На детском празднике мальчик из самой что ни на есть хорошей семьи подтравливает слепую девочку: предлагает игру – и коварно обманывает, убирает руку, гримасничает. Девочка бьет рукой по воздуху – еще минуту назад красоточка, теперь – вспотевшая от недоумения, растерянная, нелепая, несчастная. Мальчик сияет – и беззвучно хохочет. Примечательна не столько подстава, сколько вот это счастье, это сочащееся удовольствие. Шелест взрослых: надо бы сказать родителям. Его родителям? О нет, они не поверят. Пробовали уже. Наш нежный, наш единственный не может так себя вести, скажут они, мы пели ему колыбельные про гуманизм и толерантность, про европейские ценности, мы были с ним в Яд-Вашеме, мы водили его на благотворительный концерт в пользу детей с несовершенным остеогенезом, – и чтобы слепую девочку? Подите прочь, скажут они. И в спину, задумчиво: а девочка эта, кстати, – не с детдомовским ли прошлым? Не с фетальным ли синдромом?
Сложность вот в чем: этот мальчик и эта девочка встретятся еще не один раз. Им предстоит довольно тесное существование пусть не в одном классе, но в одном социуме. Потому что нельзя не замечать тенденции: дети-инвалиды постепенно перестают быть домашними затворниками. В XXI веке обучаемые инвалиды и здоровые дети будут учиться – или проводить время – вместе.
Коммуникация неизбежна, несмотря на все сегодняшние препоны и тяготы, даже, например, на железный ход нового московского курса «на выравнивание образовательных возможностей» (а фактически – на секвестр особых образовательных потребностей). Этот вектор уже не задушишь не убьешь никакими уравнительными порывами, равно как и вечным административным плачем о ресурсной безнадежности.
Непоправимо меняются прежде всего установки родителей детей-инвалидов: на смену просительному «дайте, пожалуйста, хоть что-нибудь» приходит твердое, спокойное «право имеем», – и каждый прецедент реализации этого права дает другим не только надежду, но и понимание метода. Изоляция победима: по крайней мере, мы это усвоили.
В деле интеграции инвалидов Россия сегодня находится на стадии «освоения стройплощадки» и одновременно – «первоначального накопления гуманитарного капитала» (больших перемен в общественном отношении к проблеме). Процесс создания даже минимально необходимой инфраструктуры для инвалидов продлится, скорее всего, еще не один десяток лет, и еще будут жиреть на госзаказах вороватые подрядчики, отрезая от пандусов своим детишкам на молочишко неслабый щмат, и прогремят пышные коррупционные скандалы, и судьи еще будут плакаться на засилье исков от родителей детей-инвалидов и правозащитников, – но остановить то, что сдвинулось, уже нельзя. (Вспомним, что и в других странах это происходило долго и трудно – просто на несколько десятилетий раньше).
Но уже сейчас, в буднях великих (будем верить, что великих) строек обнажается сравнительно новая проблема – взаимодействия детей-инвалидов и здоровых детей.
Отношения «особых» и «обычных», мягко говоря, не всегда идилличны, – и бывает так, что все интеграционные усилия разбиваются о неприятие детской среды. Нельзя сказать, что в детской среде процветает какая-то особенная инвалидофобия – скорее по новобранцам инклюзии бьет общая установка на безнаказанный bulling. Над походкой и речью мальчика с ДЦП гогочут не потому, что находят болезнь смешной, – но потому, что находят смешной всякую слабость или уязвимость (то, что они считают уродством).
Если в классе издеваются над толстым, рыжим, очкастым, бедно одетым, заикой – то непременно достанется и инвалиду, причем толстый и рыжий, сбросивший на «особого ребенка» изгойские лавры, может усердствовать поболее прочих. Если не издеваются в открытую – могут игнорировать, высокомерничать, пакостить исподтишка, а то и просто чваниться физической или ментальной «полноценностью». О том, что «мир жесток и груб», ребенок-инвалид узнает прежде прочих, после больниц и санаториев это не открытие, – но именно травмы приобщения к миру здоровых сверстников рискуют стать самыми болезненными – и самым печальным образом повлиять на всю картину мира.
Василий Александрович Сухомлинский, выдающийся советский педагог-новатор: «Искусство облагораживания ребенка высшими чувствами является искусством сопереживания» Фото с сайта pravmir.ru
Про детскую жестокость написано и сказано, кажется, все – тонны исследований, джомолунгмы беллетристики, «Повелителя мух» все помнят наизусть, почти как «Мороз и солнце!…», – но все опыты, все теории как-то меркнут, когда оно происходит – вживую и с твоим. «Дети в школах народ безжалостный: порознь ангелы Божии, а вместе, особенно в школах, часто весьма безжалостны», – говорил штабс-капитан Снегирев в «Братьях Карамазовых». Это он еще оптимистично говорил, с запасом, потому что порой и школа не нужна, да и порознь детки не ангелы.
Общественность района столько сил-горла-нервов положила, чтобы устроить мальчика-колясочника в обычную школу, столько бумаг извела, страшно подумать. Сражались за пандусы – правозащитники аж из Москвы приезжали, добились перевода предметных кабинетов на первый этаж, спецов из области выписывали, бюджет надорвали – а он, представьте, месяц спустя идет в глухой отказ: не хочет учиться. Не хочет более посещать передовое учебное, понимаете ли, заведение, пилотную площадку областного проекта «Равные возможности – лучшие перспективы». Они меня не любят, с изумлением говорит он. Как не любят? Хихикают. Не хотят дружить. Перешептываются за спиной. Могут пнуть или дать щелбан – не сильно, не больно даже, но как обидно. Тырят мои ластики, прячут мой телефон, передают по головам мой планшет – а мне-то не дотянуться. А один мне говорит: ну ты, человек-паук! Я – паук? Мама: «Мы скажем Марье Ивановне, директору, мы до губернатора дойдем!» Мальчик: «Тогда мне вообще не жить». Он так мечтал о друге, так старался, так выбирал галстучек на первое сентября, раскладывал фломастеры по гамме «каждый охотник желает знать…». Ждал ребят, а получил зверят. И куда теперь податься?
Это, должно быть, пройдет. Это может пройти – при умном и профессиональном подходе. Поможет и деликатная, приватная работа с самими обидчиками и их родителями, и точное слово классного руководителя, а если в школе найдется хороший психолог, он придумает коллективное действие, в котором «особый ребенок» проявит себя с лучшей стороны и получит одобрение сверстников, – дело трудоемкое, но подъемное.
Это может и не пройти – если не включатся те самые умные спецы (а везде ли они есть?) и если проблема будет считаться частным случаем, обычным misunderstanding. Или если будут применены традиционные технологии, в просторечии «чтоб мать завтра в школу» и «два за поведение», – а так чаще всего и бывает.
Высокая вероятность недружественного поведения ровесников, частная или коллективная враждебность – отдельный вызов для идеологов инклюзии. Готовы ли они к нему?
В решении этого вызова кажутся очевидными две опасности. Первая – педалирование «особости» особых детей, возведение их в статус неприкасаемых. Если по благому порыву педколлектива ребенок-инвалид будет объявлен священной коровой – пиши пропало: и толерантности не прибавится, и самому ребенку чувство его исключительности сильно осложнит будущее. Невозможна школа, где нельзя травить инвалида, но дозволено травить других детей, где репрессивно охраняют достоинство «колясочника», но игнорируют достоинство всех прочих. Здесь, как говорится, контекст важнее текста – нравы либо для всех гуманные, либо – для всех невыносимые. А любые избирательные табу рано или поздно будут нарушены, причем с фейерверком.
И другая крайность: замалчивание проблемы. Сами разберутся, пусть адаптируется, «все, что нас не убивает…», ничего с этим не поделаешь, спасибо что взяли, ну что ты хочешь, жизнь несправедлива – и далее, и далее везде. Это издержки логики выживания: мы так боимся потерять свежеобретенные права и возможности, что требование еще и психологического комфорта для ребенка представляется капризом и роскошью. Хотя с него следовало бы начинать, – как с условия номер один.
И еще. Можно сколько угодно объяснять ужесточение детских сердец влияниями общественной атмосферы, людоедскими или дарвинистскими ценностями медиасреды, интернета, масскульта, – но если главные взрослые – родители и учителя – не готовы предъявлять детям ежедневное и неутомимое «усилие добра» и волю к защите слабого, то ничего не получится – ни толкового образования, ни должного воспитания.
Гуманитарные технологии, инновации, тьюторы, пилотные площадки – весь этот яркий, сложносочиненный замысел тускнеет в одно мгновение, когда взрослые пожимают плечами, не в силах победить биологическую стихию детской жестокости. «Израстет», – говорят они.
Но израстет ли?