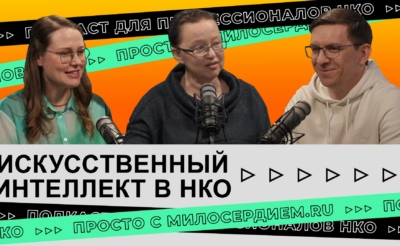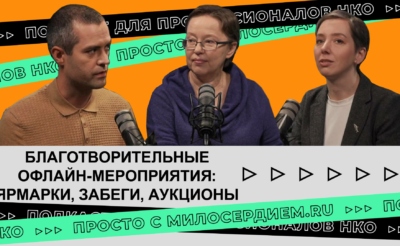«Нужно придумать метафору и рассказывать про нее»
– Сколько фандрайзинговых текстов вы написали за двадцать лет?
– Один в неделю точно, а то и больше.
– Получается, больше тысячи. А было такое – не буду, не поеду, не хочу?
– Было, конечно. У меня есть по этому поводу ощущение странное. Может, оно снобское, но все-таки – ребята, я придумал этот жанр 20 лет назад. Он даже в учебник журфака вошел. Но, может, давайте что-то другое придумаем? Может, по-другому можно фандрайзить тоже? Я б хотел придумать еще какой-то способ. Но не могу.
– Как устроен жанр, который вы придумали?
– Это очень простая вещь. Ты рассказываешь про страшное, про то, на что люди смотреть не могут. Поэтому нужно придумать метафору и рассказывать про нее. Это как с Медузой Горгоной: прямо смотришь – окаменеешь, а чтобы победить ее, надо смотреть в щит.
Первый текст я написал про девочку Лизу Ильину, которая сейчас работает детским эндокринологом в Центре Димы Рогачева. Ей надо было сделать трансплантацию костного мозга. Родители Лизы специально родили второго ребенка, чтобы использовать его пуповинную кровь. Это один из официальных способов добыть донора в случаях, когда ждать можно. У брата забрали кровь, а пересадку сделать все равно не могут, потому что нет противогрибковых лекарств и специальных антибиотиков. И текст был такой: смотрите, человеку месяца нет, а у него уже смысл жизни пропадает. Он родился, чтобы спасти сестру. И у него в месяц будет чудовищное фиаско, просто потому что таблеток каких-то нет. Вы начинаете сочувствовать не тяжелобольной девочке, на которую посмотреть страшно, а совершенно здоровому ребенку, который пришел в мир с первой миссией – спасти сестру.
– Какой ваш текст собрал больше всего денег?
– Он назывался «Половина девочки». Это вообще жуть. Там про девочку, у которой ампутирована вся нижняя часть тела. Ее изнасиловал отчим, хотел скрыть следы преступления и поджег ее. Кошмар. И вот я вхожу к девочке, она уроки делает. Школьница, лет 10-11. И мы с ней начинаем разговаривать про школу. Математика ей нравится, а в русском ошибки все время делает. Говорит: «Если б можно было картинками рисовать, вот было бы здорово». Я говорю: «Так можно же. Есть много языков, которые пишут картинками. Например, китайский». И мы с ней начинаем разбирать, как из ключей составляются китайские иероглифы. Я ей предлагаю разные иероглифы, касающиеся ее жизни.
А китайские иероглифы действительно состоят из основных ключей, которых мало. И при помощи них можно выражать даже абстрактные понятия. Иероглиф «панда» состоит из ключей «кошка» и «бамбук». Ок, ясно. А понятие «хорошо» состоит из ключей «женщина» и «ребенок». Кто сказал, что это плохо? И мы начинаем выдумывать всякие разные иероглифы, касающиеся ее жизни. В конце я предлагаю читателю иероглиф «надежда» из ключей «скальпель» и «деньги», потому что ей операция нужна. Это был текст, собравший огромные деньги. А если бы я описывал, каково жить ребенку после всего, что с ним произошло…
«Так жить можно, а так жить нельзя»
– Есть фонды, для которых вы пишете бесплатно? Как вы их выбираете?
– Например, программа Spina bifida фонда «Сделай шаг». Есть такие штуки, которые я называю «окнами возможностей». В середине-конце 1990-х в детской онкогематологии все лекарства-то были. Не было протокола и умения бороться с осложнениями. Ты завозишь протокол, лекарства противогрибковые, и у тебя 90%-ная смертность превращается в 20%-ную смертность. И спина бифида – это то самое окно возможностей. Внутриутробная операция, правильная реабилитация – и эти парализованные дети, которыми были до недавнего времени забиты все интернаты для сирот с тяжелыми и множественными нарушениями, остаются в семьях. Ну прихрамывают они, ну шунт в голове – но жизнь у них нормальная.
На фонд «Подари жизнь» я всегда работал даром. Первые четыре сценария концертов написал я, а потом уже не я. Они уже могли сами. Или фонд «Вера». Понимаете разницу между страной, в которой есть хосписы, и в которой нет хосписов? Разницу между страной, где умирающие орут от ужасной боли, и страной, в которой они потихонечку умирают в кругу домочадцев, играя в домино?
– Вам хочется видеть результат.
– Да. Но надо понимать результат не как мгновенное исцеление. В хосписе мгновенного исцеления не происходит, но результат есть. Этот результат – смягчение нравов. Так жить можно, а так жить нельзя.
– Были фонды, которым вы отказывали?
– Пришел фонд, помогающий недоношенным детям. Ничего плохого в недоношенных детях нет. У них у всех ретинопатия, и они в той или иной степени слепые или слабовидящие, а еще ДЦП. Нормальные ребята, нормальный фонд. Но не хочу. Может такое быть? Про дикую природу было бы интересно, а про приюты для собак – нет.
– Каким организациям вы жертвуете деньги?
– Детским деревням SOS, например. Так исторически сложилось. Не то что я каждый год сажусь и раскладываю список фондов и думаю, какому фонду мне пожертвовать тысячу рублей. Просто давным-давно, когда деревни SOS только появились в России, я писал про них тексты. Тогда это выглядело космосом, и я стал оказывать маленькую помощь.
– Работу в Русфонде или «Таких делах» вы воспринимаете как благотворительное дело?
– Нет. Тут я выступаю не благотворителем, а профессионалом. Я рассказываю истории за деньги, и за хорошие. И если бы мне их не платили, я бы их не рассказывал. Это тоже важное по сектору ощущение, что раз мы делаем что-то такое про добро, то мы вроде как и сами получаемся про добро. Нет. Нас позвал барин и велел рупь целковый передать больной дочке дворника. А мы слуга, который с этим рублем бегает. Если мы умный слуга, да еще и доверенный, то мы, конечно, скажем: барин, не надо. Дворник пьяница, пропьет он этот рубль, и девочке не достанется ничего, так еще и изобьет ее спьяну. А давайте ей лучше дохтура английского вызовем. Но мы не жертвуем, более того, нам барин жалованье платит за то, что мы бегаем по его поручениям. Поэтому ощущать себя причастным к добру – нет. Но я за то, чтобы воспринимать это как работу.
«Стремление разобраться, как что устроено на самом деле»
– Про что еще будет писать сайт Русфонда?
– Очень хочется понять, как устроен наш мозг, и уже написана первая колонка психолога на эту тему. Что такое магическое сознание, с которым мы живем? Ладно шаманы. Какой самый посещаемый день в церкви? Крещение. Потому что материальное что-то дают – воду. Про благодать Духа Святого мы не понимаем, где она, а тут вода. Можно рассаду огурцов поливать, ребенка покрестить, чтоб здоровенький был.
Или вот еще: в публичном пространстве, в СМИ, вы когда-нибудь слово «теолог» встречали? Допустим, привозят мощи святого Николая. Вот официальная позиция Церкви, вот Виктор Шендерович или Александр Невзоров высказались против. Специалиста кто-нибудь спросил? Мы не говорим с учеными не только в медицине, не только в педагогике, не только в науке, мы и в Церкви тоже с учеными не говорим. Вопрос филиокве людям кто-нибудь растолковал?
– Вы с таким дискурсом не согласны?
– Я не согласен с чудовищным дилетантизмом во всех областях и, главное, с тем, что с этим дилетантизмом все согласны. Хорошо, ты можешь сделать дилетантскую ошибку, даже не понять, где она. Но стремление не делать их должно быть? Стремление разобраться, как что устроено на самом деле. Как медицина устроена, педагогика, что за болонская система такая, и почему мы в нее то входим, то выходим?
Вот эта самая инклюзия, про которую столько говорят, как устроена? Детям лучше в приемной семье, чем в учреждении, скажет вам любой интересующийся. Потому что Лена Альшанская уже 20 лет объясняет всем, что ему, конечно, в семье лучше. Ни по какой другой причине. Никакой науки под этим нет. Никакого когортного исследования сирот в России не проводилось. Мы не знаем, действительно ли сиротам лучше в семьях. Со мной на бокс ходит парень, который рос в детдоме. У него теоретически должна была не сформироваться привязанность, ответственность, и он должен был тоже сдать своих детей в детский дом. Нет, у парня прекрасный небольшой бизнес, трое детей, он любящий отец, и на него учреждение подействовало совершенно иначе, он понял, что надо обязательно беречь семью.
Психолог-социолог Елена Григоренко рассказывала мне про когортные исследования фостерных семей в Америке, которые привели ученых к мнению, что не так все просто. Может, с привязанностью в приемных семьях и получше, но возникает проблема с девиантным поведением. И это когорта, на нее можно опираться. Мы обсуждаем, что Госдума запрещает американские лекарства. «Мы пропадем без американских лекарств», – кричит прогрессивная общественность. «У нас свои лекарства не хуже», – отвечает нам Минздрав. На основании чего высказываются и те, и другие? Исследования были? Нет. Блинатумомаб не исследовался в России. Триоксид мышьяка не исследовался в России. Мы не знаем.
«Мне хотелось бы, чтобы разговор пошел на принципиально ином уровне»
– Как возник ваш курс про сторителлинг?
– Когда у меня появилось некоторое количество подчиненных в «Таких делах», я вдруг понял, что они там в разной степени, но в целом талантливые неравнодушные и даже отчасти образованные люди. Но только многим из них не объяснили простых вещей. Тогда я устроил для них трехдневный курс, где рассказал им Аристотеля и МакКи. Привел примеры из литературы и кинематографа. И смотрю – лучше писать стали. И посещения выросли без других усилий.
Пошел слух, и стало понятно, что есть еще интересующиеся. Тогда я связался с Британской школой дизайна, мы организовали курс и он оказался очень успешным. Потом сделали еще один онлайновый. Тут еще важно, что это навык, он проявляется спустя время. Человеку примерно объясняешь, как это делать, и если он продолжает тренироваться, то у него начинает получаться через некоторое время. Но я до сих пор не понимаю, что делать со студентами, которые патологически не способны к литературе, письму, рассказыванию. Они не видят того, что я вижу. У них по-другому устроен мозг.
– Хотите еще какой-нибудь курс придумать?
– Вообще я хотел сидеть себе за городом, писать книжку, получать немножко денег за статьи для Фонда борьбы с лейкемией и сдавать квартиру. Ну а потом Нобелевскую премию по литературе дадут, все дела, тут-то с долгами и расплатимся. Но когда я уволился из Таких Дел, мне позвонили друзья из Русфонда, спрашивают – не хочешь ли войти дважды в одну и ту же реку. И я согласился. Перезвонил Амбиндеру, спросил, нужен ли ему. Он говорит, вроде нужен. Ну не сложится так не сложится. А что, должно было сложиться? В моем любимом романе Роберта Пенна Уоррена «Вся королевская рать», когда бухгалтер губернатора Старка проворовался, тот ему говорит: «Почему ты думаешь, что Господь создал тебя быть богатым? Он создал тебя быть бухгалтерским червем в нарукавниках». Это просто такая гордыня, очень-очень большая.
– А свой KPI у вас есть?
– Мне хотелось бы, чтобы разговор пошел на принципиально ином уровне. Про сущностные вещи. Не в смысле спасения души или смысла жизни, а в смысле, что у общества есть способ разговаривать, и мы можем про все договориться. Наш Крым – не наш Крым. Применима ли методика Войта при реабилитации детей с ДЦП. Надо ли делать внутриутробные операции детям с грыжей спинного мозга, и, если надо, какова максимальная цена, когда это рационально. Надо ли применять блинатумомаб с самого начала лейкоза или только после рецидива. Мы сейчас все напишем по статье на эту тему, все друг другу их отредактируем, потом отрецензируем, потом соберемся на симпозиум, у нас есть система выбора докладчиков, у нас есть стенды и так далее. Если удастся стать частью формирования цивилизованного диалога про специальные вещи, то вполне себе такой KPI.
«Ты всегда вторгаешься в частную жизнь. Где у этого границы, я не знаю»
– Какие самые спорные тексты на «Таких делах» вышли под вашим началом? Вспоминается текст о мужчине, который стал жертвой насилия со стороны его жены.
– Вот это как раз абсолютно на ровном месте. В итоге жена его подтвердила все, что он сказал, один в один. «Ну да, била. А как же его не бить, сволочь такую?»
– Помимо прочего, там же легко можно было вычислить героя, а он очень подробно пересказал медицинскую биографию жены. Это скорее вопрос этики – публиковать такое или нет.
– Вот у меня полное ощущение, что я уже умер и попал в рай, потому что вокруг меня одни святые, которым только дай об этике поговорить. Так вообще ничего писать нельзя. Нельзя на каждый чих говорить: «А вот про основной ваш диагноз мы можем писать, а про побочный?» Люди это рассказывают. А поскольку ты рассказываешь о них, то всегда вторгаешься в их частную жизнь. Где у этого границы, я не знаю.
– У вас тоже наверняка в практике было, что вам что-то рассказывали, а потом вы думали, стоит это вставлять в статью или нет.
– Было. Иногда вставлял интимные подробности, и ничего. А однажды про одну девочку с редким генетическим заболеванием написал, что лицо при этом заболевании изменяется так, что ребенок становится похожим на кошку из фильма «Аватар». Какой скандал ее бабка устроила по этому поводу! Ребенок на кошку похож! Я ей говорю: «Фильм «Аватар» пойдите посмотрите, там хорошая кошка-то». А ей неважно. Я предлагаю быть всем снисходительнее друг к другу. Каждый день вокруг нас происходят куда более чудовищные вещи, и смешные тоже. Про Панюшкина понятно, что стрелять в ответ не будет, а про Рамзана Кадырова понятно, что будет. Поэтому этические ошибки Панюшкина подвергаются тщательному изучению, а этических ошибок Кадырова даже никто и не замечает.
«Социальные тексты не про страшное»
– Какие материалы вам самому больше всего понравились?
– Их было много. Есть некоторые, которые я запомнил. Это текст Дианы Хачатрян про якутское кино – потому что это социальный текст не про страшное. Он про то, как люди в Якутии кино снимают. Сначала со смартфонами, потом стали в кинотеатрах показывать, теперь вот один из этих фильмов получил Гран-при Московского кинофестиваля. И тема не из одного и того же бесконечного нашего набора. У нас есть штук пять тем, и они время обсуждаются. Вот мы кого-то оскорбили, умер кто-то, как правильно скорбеть об умершем, а надо ли скорбеть о том, кто подписал письмо в поддержку аннексии Крыма. А там другая жизнь происходит, не та, что в телевизоре, и не та, что в фейсбуке Аркаши Бабченко. И когда удается рассказать про нее интересно, это очень здорово.
Очень я люблю текст Жени Волунковой про цыган. Девочку 18 лет арестовали за то, что она родила ребенка от мальчика 14 лет, типа за растление малолетних. А это цыганская деревня. И они вообще официально муж и жена, у них свадьба была. Надо же все-таки отдавать себе отчет в том, что законы у нас, конечно, хорошие, но вообще-то есть правоприменительная практика. Ты не можешь присобачить свои законы ко всему на свете. Сложнее жизнь устроена. Напомню, что в дореволюционной России, где Православная Церковь была официальной, тем не менее, присягу в армии православные понятно, как принимали, мусульмане по-своему, а язычникам, каковых было довольно много, особенно на Кавказе, который тогда еще не был весь исламизирован, давали есть мясо с сабли. Потому что у них так принято клясться! Надо понимать, что в стране живут разные люди, и представление о возрасте согласия у них разное.
«А автомобиль кувалдой не надеешься починить?»
– Теперь вы главный редактор Русфонда. Не секрет, что президент Русфонда Лев Сергеевич Амбиндер – тоже человек непростой.
– Я работал с ним 15 лет, прежде чем в первый раз уйти из Русфонда. Так что я этого не боюсь.
– Плюсы и минусы новой работы?
– Плюс – огромный ресурс. Лев Сергеевич Амбиндер создал гениальную машину – огромную, отлаженную – по сбору денег. Поэтому если ты находишь с ним общий язык, то можешь сделать практически все, что угодно. А он вполне договороспособный человек.
Главный минус Русфонда в том, что он занимается адресной помощью. Даже при том, что у Русфонда есть масштабные неадресные проекты, например, кардиологическая операционная в Томске, деньги на нее все равно собраны адресно. Сейчас строится регистр доноров костного мозга, но деньги на него все равно собираются адресно. Поэтому Русфонду очень трудно осваивать новые темы. Понятно, как мы говорим про больного ребенка, которому что-то надо. И понятно, как мы говорим про проблему государственной важности в медицинской области. Типа: «Что ж вы, собаки, регистр не создаете?» Или: «Что ж вы, государство, баклофеновые помпы детям с диабетом ставите, а расходники им потом не оплачиваете?». Вот на такие темы Русфонд выступать умеет. Но огромное количество проблем, которые у нас есть, носят культурный характер – хотелось бы о них говорить. Например, странные запросы на лечение черти где черти чем – откуда они?
– Может быть, от необразованности?
– Необразованность – это одно. А бескультурье – другое. Ты можешь быть необразованным, но культурным. Это значит, что когда у тебя сломался автомобиль, ты не пытаешься починить его кувалдой сам, поскольку, кроме газа и тормоза, ничего в автомобиле не знаешь, а везешь его в автосервис, причем умеешь отличить хороший сервис от плохого. А когда у тебя близкий человек заболевает раком, то почему ты везешь его к шаману в Бишкек?
– Потому что надеешься.
– А автомобиль кувалдой не надеешься починить? Причем странно ведут себя те, к кому я испытываю глубочайшее уважение. Например, к шаману в Бишкек ездил лечиться от рака артист Александр Абдулов. Это общеизвестный факт. А потом, посмотрев на артиста Александра Абдулова, повез свою жену артист Хабенский, о чем он сам рассказывал в интервью Дудю. Я понимаю, что люди испуганы, травмированы и ведут себя не очень адекватно. Но все-таки должно что-то останавливать.
Я смею думать, что, судя по пиджакам и штанам, культурная идентичность у нас европейская. Исходя из этой парадигмы, надо, наверное, предполагать, что для нас актуальна доказательная медицина. И у нас, наверное, исследования проводятся, потому что как можно доказать медицину без исследований? Хотя знаете, сколько у нас проводится исследований в области детской онкогематологии? Полтора. Это при том, что в Америке идет речь на сотни. В Китае на сотни. В Европе на десятки, но они еще в американских участвуют. Науки без исследований не может быть. У нас ее нет.
– Есть ли у Русфонда ресурс, чтобы лоббировать запуск исследований?
– Это не мое дело. Если я стану думать о том, как это воплотится в жизнь, я с ума сойду. При том, что даже на моей памяти многое изменилось. Я помню, когда выживало 10% детей, больных раком крови, а сейчас выживает 80%. Не то чтобы я это сделал, но я был одним их тех, кто это сделал. Хотя я на это не рассчитывал. На строительство центра имени Димы Рогачева я не рассчитывал. Когда построили, я вошел туда, присел в уголок и уронил скупую мужскую слезу. Мое дело – рассказывать. И я рассказываю. Я как попка-дурак: 528-е интервью с профессором Алексеем Масчаном, 792-е интервью с профессором Натальей Беловой. Может быть, как раз вот возможности Русфонда позволят поехать в Европу посмотреть, как там Т-клеточные технологии в лечении онкозаболеваний развиваются.
«Надо научиться говорить внутри сообщества так, чтобы коллеги не обижались»
– Что вас сейчас беспокоит больше всего в российской благотворительности?
– Все благотворительное сообщество занято вопросом о том, как правильно собирать деньги. И еще не очень занято вопросом о том, как деньги тратить. В отчетах благотворительных организаций я вижу: собрали столько-то, потратили столько-то. Что случилось-то? Вылечился кто, выучился кто? Сколько бездомных получили дом и паспорт? Есть огромное количество фондов, которые даже не думают в таких терминах. Они думают, честные они или нечестные. И очень мало думают про то, эффективные они или неэффективные.
– Русфонд эффективно тратит свои миллиарды?
– Некоторые да, некоторые нет. Слабое место Русфонда в том, что он всегда позиционировал себя (и продолжает) как журналистский проект. А вы почему собираете деньги на это? А нам врачи сказали. А это хорошие врачи или плохие?
– Так это часть журналистской работы – выяснить.
– На мой взгляд, это должно работать иначе. Как в науке. Должен быть peer reviewed journal, способ разговаривать внутри сообщества именно про целесообразность того, что мы делаем. И надо научиться говорить внутри сообщества так, чтобы коллеги не обижались. Я вхожу в попечительский совет фонда «Подари жизнь». Каждый раз, когда я спрашиваю, почему это так сделано, объяснение одно – стечение обстоятельств. Отдать это на суд широкой публике невозможно, потому что это совсем другой уровень экспертности. У нас весь благотворительный дискурс адресован широкой публике, а никакого экспертного обсуждения, доброжелательного уж по крайней мере, нет. И мне этого крайне не хватает. Этого нет как института.
– Вам не хватает круглого стола, за которым сидят Митя, Амбиндер, Нюта Федермессер…
– И не только они, но и специалисты областей, в которых эти благотворительные организации работают. Плюс некоторая всеобщая презумпция доброжелательности. Я понимаю, что такой идеальной схемы не может быть, и в ней всегда будут транзакционные издержки. Но сейчас нет вообще никакой.
– А где есть?
– Например, в науке это делается так. Я начинаю исследование и посылаю его коллегам и в журнал, где его дают на рецензирование вслепую. Или я предлагаю рецензента, но тогда я предлагаю самого сложного для себя. И этот рецензент понимает, что ему нельзя позволить себе оттоптаться на мне за то, что у меня есть Первый канал. Что мы не про то, у кого Первый канал, а у кого фамилии десяти олигархов написаны золотом на стене. Что мы хотим добиться целесообразности. Такого у нас нет. Вот так поговорить нельзя. Можно поговорить в терминах: ты дурак, у тебя Первый канал, я сам первый это придумал. Это все можно. И наоборот, если ты сам говоришь, что это фигня, тут, конечно, ты услышишь аргументы – онажемать, опять про Первый канал. Что-нибудь про символ веры обязательно. В общем, что-то, не имеющее отношения к делу. Пока что более-менее обсуждать мы научились только правила сбора денег. И то – про то, кому принадлежит слово ДЕТИ, мы так и не договорились.
– Так, может, всем запретить его использовать?
А я не знаю. Мне кажется, что правильный способ решения – это суд. Но мы продолжаем обсуждать фандрайзинг, а я очень хочу, чтобы мы подумали про фанд…
– Спендинг.
– Да. Мы правильно делаем, что тратим деньги вот на это? Мне кажется, что здесь есть огромные лакуны в смысле понимания. Кто мне объяснит, что это разумное решение? Мама попросила? Понимаю. Маму очень понимаю, она мечется, она поверит в любого шамана, а это не шаман, он вообще доктор. Но сколько детей с ДЦП отправлено разными фондами на реабилитацию в Германию с помощью токсинов ботулизма? Сотни, тысячи. Ботокс! У меня в доме в салоне красоты делают. Почему мы отправляем ребенка на ботокс за 120 тысяч евро, хотя это можно сделать в моем доме за 20 тысяч рублей? Это, между прочим, деньги, которые люди дали. Они, может, не последнее отдавали, но это их деньги.
– Какие организации более-менее разумно распоряжаются своими деньгами?
– Крупные фонды, потому что они давно существуют и уже сталкивались с этими ошибками. «Подари жизнь», Русфонд, «Вера». А вот про четвертый крупный фонд WorldVita ничего непонятно. Что за миллиард в год, на что? Почему именно этим детям? Ни с кем ни на какой контакт эти люди не идут.
Фото: Павел Смертин