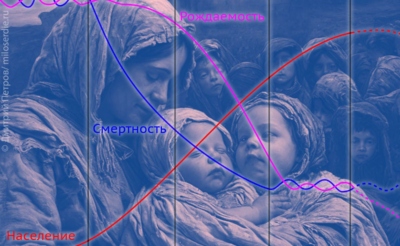Среди борцов с фашизмом были самые разные люди – разных национальностей и вероисповеданий, мотивы их борьбы также были различными. Патриотизм и левые убеждения, чувство долга и любовь к свободе, законопослушность и личные обиды равно могли побудить людей к участию в этой борьбе. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей предлагаем вашему вниманию отрывки из воспоминаний участницы голландского Сопротивления, Корри тен Боом, оказавшейся в рядах борцов с фашизмом благодаря искренней вере в Бога и стремлению жить по Его заповедям.
С первых дней оккупации Голландии дом отца Керри в маленьком голландском городке Харлеме стал одним из центров спасения евреев. Корри доставала фальшивые документы, находила людей, готовых принять нелегалов на жительство или помочь покинуть страну, в самом доме организовала потайную комнату где проживало до 8 человек одновременно. В феврале 1944-го Корри (которой было уже 52 года), ее отца, старшую сестру Бетси и многих других участников Сопротивления арестовали. Отец Корри скончался в заключении, а они с сестрой в течении года сменили несколько тюрем и концлагерей. Нижеследующий отрывок начинается с рассказа о прибытии сестер к очередному месту заключения – концлагерю Равенсбрук (тому самому, где примерно в это же время закончила свой земной путь св.прп.Мария (Скобцова)):
<...>
Еще двое суток продолжалось наше невероятное путешествие в глубь страны, которой мы так боялись. Время от времени по рукам шла буханка хлеба. Но воздух в вагоне стал настолько тяжелым, что мало кто был в состоянии есть.
Сильнее тесноты и вони всех мучила жажда. Несколько раз во время остановки дверь открывалась и охранник передавал ведро с водой. Но люди настолько обессилели, что перестали думать о других: тот, кто сидел ближе к двери, не оставлял ни капли соседям.
Наконец, на утро четвертого дня пути, состав вновь замер, и дверь откатилась в сторону на всю ширину. Мы на четвереньках поползли к проему, и вывалились наружу. Впереди виднелось голубое озеро. На его противоположном берегу, среди платанов, возвышался шпиль церкви.
Женщины, которые были покрепче, принесли несколько ведер воды из озера, и мы жадно припали к ним пересохшими и распухшими губами. Состав стал заметно короче, исчезли вагоны с мужчинами. Охранять тысячу женщин оставили горстку совсем молоденьких солдат, почти подростков. Да больше, в общем-то, и не требовалось: мы с трудом стояли на ногах.
Спустя некоторое время охранники построили нас в колонны и погнали вперед по дороге вдоль берега озера, а затем вверх по склону холма. Я боялась, что Бетси не одолеет крутого подъема, но вид деревьев и неба, видимо, придал ей сил, и она даже делала попытки помочь мне. По пути нам встречались местные жители, пешие и на телегах. Особенно понравились мне розовощекие, здоровые дети. Они глядели на нас с явным интересом, в отличие от взрослых, отворачивавших головы, когда мы приближались к ним.
С гребня холма мы увидели наш лагерь: ряды серых бараков за бетонными стенами и сторожевыми вышками показались мне безобразным шрамом, уродующим зеленый ландшафт. Труба, торчавшая посредине лагеря, и серый дым над ней лишь усугубляли это впечатление.
– Равенсбрук! – сдавленно прокатилось по рядам заключенных название лагеря. Мы слышали об этом проклятом крематории еще в Харлеме… Я отвернулась от коптящей голубое небо трубы. Нет, я не стану смотреть на этот дым, тающий в сиянии дня. Когда мы с Бетси спускались с холма, я почувствовала, как постукивает в спину Библия. Благая весть от Бога?! Уже можно было различить нарисованные на стене череп и перекрещенные кости, предупреждающие о пропущенном по колючей проволоке токе высокого напряжения. Массивные железные ворота распахнулись, колонна вошла в лагерь. Вдоль стены тянулся ряд водопроводных кранов. Мы бросились к ним, торопясь смыть с себя зловоние вагонов. Женщины-надзирательницы в синей форме тотчас же с бранью принялись отгонять нас плетками.
Лагерь был гораздо мрачнее прежнего. В Вугте мы могли хотя бы мельком видеть поля и деревья, а здесь вокруг был только бетон и колючая проволока.
Колонна остановилась. Под огромным брезентовым навесом не менее акра земли было покрыто прелой соломой. Мы с Бетси присмотрели местечко поближе к краю и с облегчением сели, но тотчас же вскочили как ужаленные. Вши! Солома буквально кишела ими. Мы немного постояли в замешательстве, но потом все-таки расстелили одеяла поверх шевелящейся трухи и сели на них.
Некоторым женщинам удалось захватить с собой из Вугта ножницы, и все начали подстригать друг другу волосы. Дошла очередь и до нас. Конечно же, длинные волосы – недопустимая роскошь в подобном месте, но я не смогла сдержать слез, когда отрезала каштановые локоны Бетси.
Ближе к вечеру в дальнем конце навеса началось какое-то волнение. Цепь охранников в форме СС надвигалась на нас, грубо выталкивая женщин из-под навеса. Мы вскочили на ноги, подхватив свои одеяла, но цепь солдат вдруг остановилась в нескольких ярдах от нас. Мы растерянно озирались, переминаясь с ноги на ногу и гадая, в чем дело, почему нас сгоняют с соломы. Оказалось, что нам предстоит ночевать на шлаковой площадке. Мы с Бетси расстелили на ней одеяло, легли, прижавшись друг к другу, и накрылись вторым одеялом.
– Ночь темна, и дом мой далек… – негромко запела Бетси, и все вокруг подхватили: – Укажи мне мой путь…
Несколько раз мы просыпались от ударов грома и потоков дождя. Одеяла насквозь промокли, мы оказались в луже. А к утру вся площадка превратилась в болото; руки, одежда и лица стали черными.
Не успели мы отжать одеяла, как поступила команда строиться. На завтрак мы получили какой-то горький жиденький напиток кофейного цвета с ломтиком черного хлеба – и ничего больше. На обед нам выдали по вареной картофелине и черпаку баланды из репы.
Всю первую половину дня мы простояли навытяжку на том же плацу, но котором провели ночь. Нам хорошо были видны ряды колючей проволоки на верхней кромке высокой стены. Целых два дня воспитывали нас подобным образом, оставляя на ночь под открытым небом. Хотя дождя больше не было, земля и одеяла не просохли. Бетси начала кашлять. Я достала из наволочки голубую кофту, укутала сестру и дала ей несколько капель витаминизированного масла, оставшегося от посылки Красного Креста. Но к утру у нее разболелся живот.
Вечером третьего дня, когда мы вновь укладывались спать под звездами, поступил приказ идти в санпропускник. Через десять минут, пройдя по длинному коридору приземистого бетонного здания, мы очутились в ярко освещенном зале, где нашим глазам предстала удручающая картина: одна за другой женщины подходили к столу, за которым сидели несколько офицеров, бросали свои одеяла и наволочки в общую кучу, потом раздевались у всех на виду догола, складывали одежду в другую кучу и шли мимо десятка охранников в душевую комнату. Оттуда они выходили уже в лагерной одежде и грубых башмаках. Ничего другого заключенным лагеря иметь не полагалось.
Но Бетси нужна теплая кофта! Ей необходимы витамины! А главное, нам обеим никак нельзя без Библии! Положение казалось безвыходным. Я порылась в наволочке, нащупала пузырек с маслом и зажала его в руке. С остальными вещами придется к сожалению расстаться… Вдруг, когда до стола комиссии оставалось всего несколько шагов, Бетси побледнела и пошатнулась, схватившись руками за живот. Мимо проходил офицер, я по-немецки попросила его проводить нас в туалет. Даже не взглянув на меня, он раздраженно кивнул головой в сторону душевой комнаты. Мы с Бетси робко подошли к двери в большое, пахнущее сыростью помещение.
– Скажите, пожалуйста, – обратилась я к охраннику возле входа, – где здесь туалет?
– Пользуйтесь отверстием для стока воды, – буркнул он и пропустил нас внутрь, захлопнув дверь.
Мы остались в предбаннике одни: заключенных пускали сразу партиями по пятьдесят человек, а нужного количества, видимо, еще не набралось. В углу лежала кипа лагерной одежды, рядом были свалены сломанные скамейки.
– Кофту, живо! – прошептала я Бетси, стягивая через голову шнурок с мешочком, в котором лежала Библия.
Завернув пузырек и Библию в кофту, я засунула ее под скамейки. А спустя десять минут мы оказались в душевой и с наслаждением подставили искусанные насекомыми тела под струи холодной воды, ощущая себя не обобранными до нитки, а обладательницами несметного богатства. Потом, мокрые, мы долго выбирали себе платья, пока не нашли подходящие: просторные, с длинными рукавами, чтобы можно было вниз надеть кофту. Вытащив из тайника заветный сверток, я засунула его за пазуху и решительно направилась к двери: будь что будет!
Выпуская из душевой, охранник обыскал шедшую перед нами женщину, а также Бетси. Ко мне же и не прикоснулся! При выходе из здания тоже обыскивали – на этот раз надзирательницы. Я невольно замедлила шаг, но старшая охранница грубо подтолкнула меня в спину:
– Проходи, не задерживай остальных!
Я не заставила ее подгонять меня дважды.
Вот так в то утро мы с Бетси благополучно принесли в барак № 28 не только Библию, но и новое свидетельство могущества Того, Кто дал ее миру.
На указанном нам месте уже лежали три женщины. Впятером мы могли уместиться лишь поперек нар. Бетси, натянув кофту, вскоре заснула. Я же еще долго лежала с открытыми глазами, наблюдая за скользившим по стене лучом прожектора и прислушиваясь к голосам охранников, доносившимся снаружи…
Подъем и утренняя поверка в Равенсбруке производилась на час раньше, чем в Вугте. В 4.30 мы уже должны были стоять по стойке смирно в зябкой предрассветной мгле, по десять человек в шеренге. Наш барак находился в карантинной зоне. Рядом, возможно для острастки, располагался штрафной бункер, из которого с утра до вечера неслись дикие крики. Хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать их, но руки нужно было держать по швам.
С каждым днем становилось все труднее сохранять присутствие духа, даже в бараке. Голые стены, убогость и ощущение безысходности отупляли и подтачивали силы. Но одновременно в нас нарастало и понимание нащей с Бетси миссии здесь. Каждую свободную минуту мы использовали для чтения вслух Библии, и круг слушателей изо дня в день расширялся. Чем сильнее сгущался окружавший нас мрак, тем ярче возгоралось в нем Слово Божие.
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Нет, ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем».
Когда Бетси произносила эти слова святого апостола Павла, лица слушавших озарялись светом. Порой, когда я извлекала Библию из мешочка, мои руки дрожали от волнения: столь загадочной она мне теперь казалась. Я всегда верила, что все события, описанные в Библии, происходили на самом деле. Но теперь я испытывала от соприкосновения с этой величайшей Тайной совершенно новое чувство. Библейская действительность приблизилась к нам, обрела реальные лица и голоса. И солдаты так же грубо обращались с Иисусом, издевались над Ним, как и наши охранники над нами…
По пятницам нас подвергали унизительному медицинскому осмотру. Мы ожидали этой процедуры в холодном сыром коридоре, но пытаться хоть как-то согреться нам запрещалось. Мы стояли голые по стойке смирно под насмешливыми взорами ухмыляющихся солдат. Я не могла понять, какое удовольствие глазеть на худые как палки ноги и распухшие от голода животы: на мой взгляд, нет ничего более жалкого, чем зрелище неухоженного человеческого тела. Не видела я никакого смысла и в раздевании нас догола, потому что в кабинете проверяли только горло, зубы и кожу между пальцами на руках и ногах. На этом осмотр заканчивался, и мы через тот же сырой коридор шли одеваться.
Но именно в такое утро, дрожа в очереди к врачу, я вдруг вспомнила, что Иисус был распят на кресте раздетым! В Великую Страстную Пятницу! Как же раньше мне это не приходило в голову?
– Бетси! – шепнула я сестре, стоявшей в очереди передо мной. – Ведь Его они тоже раздели…
По ее острым лопаткам под синеватой кожей пробежала дрожь.
С каждым днем ожидание перевода в постоянный барак становилось все томительнее, и, чтобы как-то скрасить его, все предавались сладким грезам: на новом месте все наладится, нам выдадут по толстому одеялу, выделят по отдельной кровати, – в общем, каждый представлял себе будущую жизнь в меру своих самых острых потребностей. Я, например, мечтала об амбулатории, где Бетси будут регулярно выдавать лекарство от кашля и витамины: наш пузырек быстро пустел, потому что Бетси делилась маслом с каждым, кто хоть раз чихнул.
Во вторую неделю октября нас наконец перевели в жилую зону. Пройдя по гаревому плацу и узким дорожкам, колонна замерла перед длинным серым бараком № 28.
– Заключенная № 66729! Заключенная № 66730! Мы с Бетси вышли из строя: в Равенсбруке никого не называли по фамилии. Следом за дневальным мы вошли в свое новое жилище – длинный барак с рогожами вместо выбитых стекол. Сначала мы очутились в большом рабочем помещении, где не менее двухсот женщин вязали серые шерстяные носки, а затем, через дверь справа от входа, вошли в спальное отделение, сразу же неприятно поразившее нас полумраком и затхлым воздухом. Вместо долгожданных/отдельных кроватей тянулись в три яруса дощатые нары, разделенные редкими узкими проходами. Не без труда мы протиснулись боком к своему месту в середине отделения и влезли на нары второго яруса, покрытые прелой соломой. Сесть и распрямиться было невозможно, поэтому мы легли, сдерживая тошноту, на вонючую подстилку и стали прислушиваться к разговору своих соседей.
Вдруг я почувствовала укус, потом второй – и вскочила, больно ударившись головой о доски.
– Бетси! – закричала я. – Бетси, здесь все кишит блохами!
Мы выползли в проход.
– Бетси, как же можно здесь жить?
– Укажи нам, укажи, как нам быть! – зашептала Бетси.
Я поняла, что она молится.
– Корри! У Него есть ответ на все наши вопросы! Убедившись, что поблизости нет надзирателей, я достала Библию.
– Это из Первого послания апостола Павла к фесса-лоникийцам, – сказала я. – Вот это место: «Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем…»
Казалось, что это написано специально для Равенсбрука.
– Читай дальше! – сказала Бетси. – Ведь это еще не все…
«Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе…»
– Вот оно, Корри! Вот Его ответ: «За все благодарите!» Вот что мы можем сделать: прямо сейчас же начнем благодарить Господа за все в этом новом бараке!
Я растерянно посмотрела сперва на нее, потом на затхлое мрачное помещение и решила уточнить:
– За что именно, например?
– Например, за то, что мы оказались здесь вместе.
– А ведь верно! Слава Тебе, Господи!
– И за то, что ты сейчас держишь в руках!
– О, да! Господи, благодарю Тебя за то, что нас не обыскали. Теперь все женщины этого барака смогут услышать Твое Слово!
– Вот именно, – кивнула Бетси. – И за то, что здесь так много людей: ведь чем ближе мы друг к другу, тем больше можем помогать!
Сестра выжидающе взглянула на меня:
– Корри, что же ты молчишь?
– О, да, Бетси, – спохватилась я, – благодарю Тебя, Господи, за эту тесноту, духоту и убогость…
– И за блох, что Ты послал нам, – светлея лицом, безмятежно продолжала моя сестра.
За блох? Ну, это уже слишком!
– Бетси, мне трудно испытывать благодарность за такой «подарок»…
– «За все благодарите!» – парировала Бетси. – А не только за хорошее. Блохи – неотъемлемая часть обители, куда Господь временно поместил нас.
Я со вздохом оглянулась на окружавшие нас со всех сторон нары и не стала.спорить. Но на сей раз я была уверена, что Бетси неправа…
Женщины начали возвращаться в барак в седьмом часу вечера, потные и грязные после тяжелого подневольного труда. Как сказала нам соседка по нарам, это здание было рассчитано на четыреста человек. Теперь же в нем ютилось не менее полутора тысяч заключенных, и при этом каждую неделю прибывало пополнение из Польши, Франции, Австрии и Голландии: немцы вынуждены были вывозить рабочую силу вглубь Германии.
На наших нарах вместо четырех человек спали девять. На весь барак приходилось всего восемь переполненных зловонной жижей уборных, добраться до которых в такой тесноте было далеко не просто. Среди полуголодных и обозленных людей часто вспыхивали ссоры и стычки.
Одна из них началась среди ночи из-за открытого окна: кто-то замерзал, а кто-то задыхался. Проснулся весь барак.
– Господь Иисус! – сжав мою руку, громко произнесла Бетси. – Ниспошли покой на это место! Здесь так редко молятся. Но там, куда Ты нисходишь, не должно быть вражды.
Постепенно перебранка стихла.
– Давайте, поменяемся местами! – предложил в тишине голос с сильным скандинавским акцентом. -Ложитесь на мое место, а я лягу у окна.
– И добавите своих блох к моим, – последовал насмешливый ответ. – Нет уж, благодарю покорно.
– А я предлагаю оставить окна открытыми только наполовину, – вмешался кто-то. – Тогда мы лишь наполовину замерзнем и наполовину задохнемся.
Раздался общий смех, и я подумала, что у всех этих женщин есть причина поблагодарить Господа – за то, что в барак № 28 поместили Бетси.
Свисток поднял нас в 4.00. Все вскочили с нар и кинулись в центральный барак, чтобы получить порцию хлеба и кофе, но последним ничего не досталось.
Утренняя поверка проводилась на широком плацу. Здесь собрались заключенные из нескольких бараков – всего около 35 000 человек. Мы стояли навытяжку при свете фонарей, и ноги немели от холода. После переклички нас распределили по бригадам.
Мы с Бетси попали в бригаду, которая работала на заводе Сименса. «Бригада Сименса», состоящая из нескольких тысяч заключенных, вышла через железные лагерные ворота под несколькими рядами колючей проволоки и оказалась в другом мире: под ногами была трава, над головою – небо, а впереди – бескрайний горизонт. Когда мы проходили мимо маленького озера, начало всходить солнце и золотой цвет осенних полей наполнил наши сердца теплом и радостью.
Однако работа на заводе была сущим адом. Мы с Бетси должны были толкать тяжелую вагонетку и грузить на нее металлические пластины, а потом везти их в производственный цех. Рабочий день длился одиннадцать часов. Но зато у нас был перерыв на обед: давали баланду и немного вареного картофеля. Те же, кто работал в лагере, не получали дневного питания.
После работы мы едва передвигали ноги. Конвойные ругались и подгоняли нас, но мы с трудом тащились обратно в лагерь. Я заметила, что местные жители смотрели на нас с сочувствием.
Возвратившись в лагерь, мы выстаивали длинную очередь, чтобы получить миску баланды. После этого мы с Бетси отправлялись в спальный барак, в дальнем углу которого проводились наши ежевечерние богослужения. В бараке не было освещения, и только в этом месте горела тусклая лампочка. Здесь собрались женщины: на этот раз их было больше, чем когда-либо.
Богослужения в бараке № 28 не были похожи ни на одно богослужение в мире. Здесь можно было услышать чтение из Магнификата на латыни, протестантские гимны и православные песнопения. Нары скрипели и прогибались под тяжестью множества женщин.
В конце богослужения я или Бетси открывали нашу Библию. Поскольку голландский язык знали немногие, то мы переводили на немецкий, и животворящие слова передавались дальше на французском, польском, русском, чешском и где-то в задних рядах снова слышался голландский.
Эти вечера под тусклой лампочкой казались нам озаренными небесным светом. Я вспоминала Харлем с его церквями, окруженными коваными решетками и не менее прочными барьерами своих учений. И я снова убедилась в том, что истина Христова во мраке светит еще ярче и объединяет разных людей.
Сначала наши собрания проводились с большими предосторожностями. Но постепенно мы становились смелее: никто из надзирателей не удосужился проверить, чем занимаются заключенные в бараке № 28. И мы не могли понять причину такого небрежения.
Еще одной необъяснимой странностью было то, что витаминные капли в пузырьке не кончались, хотя кроме Бетси ими пользовались все обитатели барака. Мне было жаль делиться лекарством с другими – ведь Бетси слабела с каждым днем. Но как можно было сказать «нет» глазам, горящим в лихорадке, и рукам, дрожащим от озноба? Я пыталась экономить капли для самых слабых, но и их были десятки…
– Помнишь, в Библии говорится о вдове из Сарепты Сидонской, у которой в кувшине не переводилось масло? – спросила Бетси.
Она открыла Библию и прочитала: «Мука в кадке не истощалась, и масло в кувшине не убывало, по слову Господа, которое Он изрек чрез Илию».
В Библии рассказывается о многих чудесах, совершавшихся много лет назад, и не так трудно в них поверить, но совсем другое дело – поверить в чудо, которое происходит сейчас с нами.
Много раз я пыталась найти какое-то объяснение. Я лежала на соломе рядом с Бетси и шептала:
– А может быть, из пузырька выходят только молекулы, а потом, соприкасаясь с воздухом, они расширяются…
– Не трудись объяснить это, Корри, – засмеялась Бетси, – а просто прими это как чудо, которое даровал нам Господь.
И вот как-то раз, когда мы стояли в очереди за вечерней порцией баланды, к нам подошла Майен – голландка, с которой мы познакомились еще в Вугте:
– Посмотрите, что у меня есть! – тихо сказала она. Майен работала в госпитале, и иногда ей удавалось утащить что-нибудь полезное – кусок газеты, чтобы заклеить разбитое окно, или хлеб, оставленный медсестрой. В этот раз она показала наполненный чем-то полотняный мешочек.
– Дрожжи! – прошептала я и прикрыла рот рукой.
– Да! Там было несколько банок, и я отсыпала понемногу из каждой.
Когда мы вернулись в спальный барак, я вытащила из-под соломы наш пузырек. Но, к моему изумлению, в нем не было ни капли масла…
В первых числах ноября заключенным выдали пальто. Наши с Бетси были сшиты в России. Мы больше не работали на заводе: скорее всего, он пострадал во время одной из бомбежек, отголоски которых мы слышали каждую ночь.
Теперь я и Бетси работали в лагере: мы должны были выравнивать полоску земли возле лагерной стены. Это была работа не из легких. Иногда, поднимая лопату, я чувствовала колющую боль в сердце, а по ночам мне сводило ноги. Но еще труднее было Бетси. Как-то после дождя земля была мокрая и тяжелая. Бетси едва могла поднять лопату и все спотыкалась.
– Шнель! – кричала конвоирша. – Ты что, не можешь работать быстрее?!
Почему они всегда так орут? Неужели они не могут говорить, как нормальные люди? Я медленно выпрямилась, пот струился по моей спине. Я вспомнила, где я впервые услышала этот надрывный истерический голос. Ну, конечно! Радио в комнате тети Янс. Этот голос звучал еще некоторое время после того, как Бетси выключала приемник.
– Работай быстрее! Ленивая скотина! Конвоирша вырвала лопату из рук Бетси и стала издевательски демонстрировать перед охранниками и заключенными то небольшое количество земли, которое Бетси была способна поднять.
– Взгляните-ка! Какие тяжести мадам баронессе приходится поднимать! Бедняжка, конечно, перетрудилась!
Охранники и даже некоторые из заключенных засмеялись. И ретивая конвоирша начала изображать, как работает Бетси. В этот раз в конвое были мужчины, и наши надзирательницы испытывали особое оживление.
Снова грянул хохот. Я почувствовала, как во мне разгорается страшный гнев. Конвоирша была молодая и здоровая – как можно смеяться над пожилой и немощной женщиной?
Но неожиданно Бетси сама рассмеялась:
– Вы правильно меня изображаете. Но уж лучше я буду хоть так копать, а то мне вовсе придется остановиться.
Конвоирша стала малиновой от злости.
– Это мне решать, когда тебе остановиться!
Она выхватила кожаный ремень и с размаху хлестнула Бетси по груди и шее. Не соображая, что делаю, я сжала свою лопату и бросилась на конвоиршу.
– Корри! – Бетси схватила меня за руку, прежде чем кто-либо успел что-то понять. – Корри! Прошу тебя, копай.
Конвоирша презрительно швырнула лопату. Я подхватила ее как во сне. На воротнике Бетси появилась алая полоска. Она закрыла шею рукой.
– Не надо смотреть, Корри, смотри лучше на Иисуса.
С середины ноября начались проливные дожди, и на стенах внутри барака появились мелкие капельки влаги. Мы промерзали до костей.
Во время утренних поверок мы стояли по щиколотку в грязи и воде – нам не разрешалось обходить лужи. В бараке стоял удушающий запах гниющей обуви и сырого белья. Бетси начала кашлять кровью, и мы отправились в госпиталь на медицинский осмотр. Но термометр показал только 37,5, а этого было недостаточно, чтобы попасть в палату. Увы! Мои мечты относительно медсестры и амбулатории при каждом бараке не оправдались. В госпитале была одна огромная палата, в которую собирались больные со всего лагеря, а те, кому не хватало места, должны были ждать под проливным дождем. Госпиталь произвел на меня ужасное впечатление. Бетси становилось все хуже и хуже, и нам пришлось ходить на осмотр еще много раз.
Эта огромная палата не производила на мою сестру такого удручающего впечатления, как на меня. Для нее это было место, как, впрочем, и любое другое на земле, где она могла рассказывать людям о Христе. Где бы она ни была – на работе, в очереди за супом или в спальном бараке, Бетси везде говорила об одном – о близости Господа и о Его промысле в нашей жизни. И чем слабее становилась она, тем крепче делалась ее вера.
Однажды термометр показал нужную температуру. Нам пришлось выстоять еще одну очередь в ожидании медсестры, которая увела Бетси в палату. Я стояла в дверях и смотрела ей вслед, а потом медленно побрела обратно.
Я вошла в барак, и он напомнил мне огромный муравейник: некоторые уже спали, а все остальные были заняты своими делами – стояли в очереди в туалет, ловили вшей друг у друга. Я пробралась в дальний угол барака, где обычно проходили богослужения. Во время наших походов в госпиталь Библию читала миссис Уилмейкер – кроткая милая женщина, католичка из Гааги. Она могла переводить с голландского на немецкий, французский, латинский и греческий. Служба уже закончилась, и женщины окружили меня с расспросами о Бетси.
В это время выключили свет, и все стали расходиться. Я протиснулась к центральным нарам и полезла через тех, кто уже был на месте. Но теперь вместо брани и проклятий в темноте были слышны слова: «простите», «извините», «ничего-ничего» и т. д.
Я нашла свое место и улеглась. Стиснутая людьми со всех сторон, я никогда еще не испытывала такого безнадежного и беспросветного одиночества.
***
По утрам на лагерь опускался холодный туман. Я радовалась, что Бетси не было здесь. Теперь у меня была другая работа: мы таскали корзины с картофелем к траншее, где его засыпали землей на зиму. И, честно говоря, эта тяжелая работа отвлекала меня от грустных мыслей, согревала. Иногда даже удавалось утащить несколько картофелин.
Но моя тоска по Бетси была невыносима, и я совершила безрассудный поступок. Майен объяснила мне, как проникнуть в госпиталь, минуя пост охраны: в туалете на первом этаже большое окно было такое перекошенное, что плотно не закрывалось, и через него лазили те, кто хотел навестить своих близких.
В густом тумане залезть в окно незамеченной было совсем нетрудно. Я протиснулась через проем, и в нос мне ударил отвратительный запах нечистот. Вдоль стены было несколько отверстий, на полу в мутной жиже плавали экскременты. Я бросилась к двери, но вдруг остановилась и оцепенела от ужаса – я увидела несколько обнаженных трупов, лежащих в ряд. У некоторых были открыты глаза: казалось, что они, не мигая, смотрят в потолок. Вдруг распахнулась дверь и в туалет вошли двое санитаров, которые несли что-то, завернутое в простыню. Они даже не взглянули в мою сторону, и я поняла, что они приняли меня за пациентку. Я выскочила за дверь и оказалась в огромном зале. Словно во сне я пошла почему-то налево…
Я уже успела забыть дорогу назад, к туалету. Что будет, если меня не досчитаются на работе? И вдруг, свернув еще раз, я узнала помещение, где оставила Бетси. Вокруг не было ни одного человека из больничного персонала. Я кинулась между койками, заглядывая в лица.
– Корри!
Бетси сидела на кровати возле окна. Она не выглядела такой болезненно хрупкой, какой пришла сюда: глаза блестели, а щеки порозовели. Она сказала, что ее так и не осмотрел ни один доктор, но возможность лежать и не выходить на тяжелую работу сделали свое дело.
Через три дня Бетси вернулась в барак № 28. У нее по-прежнему держалась температура, никаких лекарств ей не дали. Но радость от того, что Бетси опять со мной, пересилила мое беспокойство…
Бетси назначили в «вязальную бригаду», причем самым слабым женщинам разрешили работать в спальном бараке. Конечно, они имели гораздо больше свободы, чем вязальщицы из центрального барака, и Бетси могла беспрепятственно заниматься своими слушательницами. Она заканчивала пару носков еще до полудня, а остальное время читала им Библию.
Однажды я вернулась в барак довольно поздно после похода за дровами. Бетси поджидала меня.
– Похоже, ты сегодня очень довольна собой, – сказала я.
– Да! Я кое-что поняла! Я знаю, почему в спальный барак не заходят надзиратели!
Бетси рассказала, что сегодня днем женщины попросили бригадиршу помочь им разобраться в одном вопросе.
– Но можешь себе представить – она не пришла! И никто из надзирательниц не пришел! И знаешь, почему?
Бетси не могла скрыть победных интонаций.
– Из-за блох! На нарах полно блох!
Я сразу вспомнила наше первое появление в спальном бараке, когда Бетси благодарила Бога за блох, а я не видела в этом никакого смысла…
В декабре утренние и вечерние поверки превратились в испытания на выносливость. К сожалению, Бетси также должна была присутствовать на них.
Однажды утром произошел ужасный случай. Слабоумная девушка вдруг измазала себя грязью, и надзирательница, которую мы прозвали Змеей, бросилась на нее с кожаным ремнем. Несчастная кричала от боли и ужаса, но Змея не могла остановиться и хлестала девушку с еще большим остервенением.
Девушка упала на гаревый плац и затихла.
– Бетси, – прошептала я, – что можно сделать для этих людей? Я имею в виду – потом… Построить для них дом, ухаживать за ними, любить их?
– Да, Корри! Я каждый день молюсь, чтобы Господь сподобил меня показать им, что любовь сильнее зла!
Позже, собирая хворост за лагерной стеной, я вдруг поняла: я говорила об умственно отсталых, а Бетси – об их истязателях…
Через несколько дней наша бригада была вызвана на медицинский осмотр в госпиталь.
Я скинула платье и стала в очередь. К моему удивлению, доктор осматривал заключенных со стетоскопом.
– Это еще зачем? – спросила я женщину, стоящую передо мной.
– Транспортная инспекция, – ответила она, не поворачивая головы, – перевозка военных грузов.
Перевозка военных грузов! Невозможно! Я не хочу отсюда уезжать. «Господи! Не дай им разлучить нас с Бетси!»
Но, к моему отчаянию, я беспрепятственно прошла осмотр. Некоторых женщин вывели из строя, но оставшиеся едва ли выглядели здоровее – вздутые животы, впалая грудь, тощие ноги. Боже мой! Как, наверное, бедна Германия, если ей нужны такие работники!
Подошла моя очередь к глазному врачу. Ледяными руками она повернула меня к таблице, висевшей на стене.
– Читайте нижний ряд!
– Я… я не могу (Господи, помилуй!), я вижу только верхнюю букву – вон то большое «Е» (это было «Р»).
Докторша раскусила меня в тот же миг:
– Вы что, не хотите на дорожные работы?
В Равенсбруке перевозка военных грузов считалась привилегией: еда и жилищные условия были гораздо лучше, чем в лагере.
– Простите, доктор! Моя сестра здесь, она очень слаба, и я должна быть с ней.
Врач нацарапала что-то на листке бумаги.
– Придете завтра, чтобы подобрать очки. Вернувшись в строй, я прочитала, что заключенная № 66730 должна явиться в 6.30 в глазное отделение. Именно в это время отправляли бригаду!
На следующий день, когда грузовики с транспортной бригадой грохотали по дороге, я стояла в коридоре глазного отделения. У молодого доктора никаких инструментов не было – только ящичек с очками. Мне не подошли ни одни, и, выйдя из отделения, я нерешительно направилась к центральному бараку, чтобы узнать, в какой бригаде я теперь должна работать. Когда я вошла, бригадирша подняла голову и посмотрела на меня.
– Номер?
Я назвала свой номер, и она записала что-то в толстую книгу в черном переплете.
– Возьмите пряжу и выкройку и идите в спальный барак. Здесь нет мест.
Не веря своим ушам, я вышла… Так начались наши счастливейшие дни в Равенсбруке.
Мы с Бетси, благодаря ниспосланным нам блохам, могли поведать слово Божие всем окружающим. Я видела, как совершенно отчаявшиеся женщины обретали надежду. Вязальщицы барака № 28 стали живым сердцем в больном организме – Равенсбруке. Мы молились за всех обитателей лагеря – и заключенных, и тюремщиков, о спасении Германии, Европы, мира, как когда-то молилась за всех наша мама, скованная болезнью.
Мы молились Богу, а Он говорил с нами, говорил о наших судьбах после войны. Это казалось невероятным. Как можно сейчас думать о будущем?
Моя сестра уже твердо знала, чем мы будем заниматься после войны: у нас будет дом, очень-очень большой, гораздо больше нашего дома в Харлеме. Там будут жить люди, чьи судьбы сломаны войной.
– Это будет замечательный дом, Корри! Там будут полы, пахнущие свежим деревом, и стены, украшенные картинами и статуэтками, и широкая лестница, сбегающая вниз. И сад вокруг дома! Люди будут выращивать там цветы, это так полезно – ухаживать за цветами!
Слушая Бетси, я смотрела на нее с удивлением. Казалось, что она говорит о вещах, которые видела своими собственными глазами, будто сад и лестница -все это и есть реальность, а грязный барак – просто-напросто дурной сон.
Но, к сожалению, это был не сон. Зловещая реальность нависала, готовая поглотить нас.
Однажды утром три женщины из нашего барака опоздали на несколько минут, – на следующей неделе все бараки поднимались на час раньше, в 3.30 утра.
Другой случай произошел перед осмотром в госпитале. Мы увидели несколько грузовиков с открытым верхом, подкативших к главному входу. Медсестра вывела из госпиталя старую женщину с подгибающимися ногами и заботливо усадила в кузов. Из дверей хлынул поток медсестер и санитаров, ведущих под руки больных. Самых последних вынесли на носилках. Наши глаза видели все это, но разум отказывался понимать: время от времени в госпитале проводили «чистку». Когда не хватало мест, то самых больных и старых отвозили в кирпичное здание с высокой квадратной трубой…
И все это была реальность, которая казалась невозможной. Рядом существовали совершенно несовместимые вещи. О чем, например, думала медсестра, когда ласково помогала старушке сесть в кузов грузовика, увозившего людей в крематорий?
С каждым днем становилось все холоднее. Однажды во время вечерней поверки мы услышали, как отряд заключенных начал маршировать на месте. К нему, один за другим, присоединились остальные отряды, и вскоре весь плац маршировал, ударяя рваными ботинками о мерзлую землю, чтобы хоть немного согреться. Охранники не остановили нас. С тех пор это стало неотъемлемой частью утренних и вечерних поверок.
С приходом холодов среди нас стало распространяться одно особое заболевание – непобедимое чувство самосохранения. Оно могло принимать разные формы. Я, например, очень скоро заметила, что стоять во время поверки в середине строя гораздо лучше, чем с краю, – не так продувает ветер. Я понимала, что это эгоистично: если мы с Бетси в середине, то кто-то должен быть с краю. Но я находила тысячи оправданий своему поведению. Забота о Бетси. У нее такая важная миссия, и она должна быть здорова. К тому же, например, в Польше климат холоднее, чем в Голландии, и польки не так мерзнут, как мы…
Эгоизм – болезнь, которая имеет разные формы. Так, заметив, что дрожжи Майен постепенно убывают, я стала доставать мешочек только ночью, когда другие спали и не могли попросить. Ведь здоровье Бетси важнее!
«Ты ведь знаешь, Господи, она так много делает для них, и этот дом после войны – ведь он так нужен!»
И мне казалось, что самосохранение и эгоизм – не самые плохие чувства. Во всяком случае, они несопоставимы с садизмом, убийством и другими ужасами Равенсбрука.
Это было великой уловкой сатаны: выставить напоказ огромное мировое зло, по сравнению с которым грехи каждого человека как бы уменьшались. И эта раковая опухоль все больше разрасталась.
В середине декабря всем обитателям барака № 28 выдали по второму одеялу. На следующий день привезли партию заключенных из Чехословакии. Одной женщине не досталось и одного одеяла, и Бетси настояла на том, чтобы мы дали ей одно из наших. И тогда я одолжила ей одеяло, именно «одолжила», а не «дала». Подсознательно я считала это одеяло своим…
Было ли случайностью, что мои чтения Библии потеряли силу и радость? Мои молитвы сделались однообразными и безжизненными. Бетси хотела читать Библию сама, но не могла из-за сильного кашля. С этих пор наши службы стали для меня нескончаемой борьбой.
Как-то раз я читала в послании апостола Павла к коринфянам о том, что дано ему было «жало в плоть». Апостол молился, чтобы Господь избавил его от немощи. Но Господь ответил: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И тогда апостол Павел понял, что следует благодарить Господа за свои немощи, так как они даны, чтобы он «не превозносился» и помнил, что все чудеса, совершаемые им, – благодать Божия, а не следствие его собственной силы и добродетелей.
Эти слова озарили меня словно молния. Я поняла, что мой грех не только в том, что я хотела пробраться в серединку во время поверок, чтобы спрятаться от холода. Мой главный грех был в том, что я думала, что это я исцеляю людей от отчаяния и даю им надежду, что благодаря мне или Бетси заключенные в бараке стали добрее и отзывчивее. Теперь я поняла, что все делал Господь, а я принимала в этом участие лишь по Его милости…
Короткий зимний день пошел на убыль, и я больше не могла разбирать слова на странице. Я закрыла Библию и начала рассказывать собравшимся вокруг меня женщинам всю правду о себе: и о своей жадности, и о своем эгоизме, и о недостатке любви. И прежняя радость вернулась ко мне…
С каждым днем утренние и вечерние поверки делались все более невыносимыми. Ветер становился все сильнее и жестче. Мы укладывали под одежду газеты, украденные Майен из госпиталя, и голубая кофта Бетси потемнела от типографской краски.
Этот ужасный холод был, по-видимому, причиной того, что иногда по утрам Бетси не могла двигать ногами – они просто не действовали. И тогда мы тащили ее на плац под руки. Это было нетрудно: моя сестра весила не больше ребенка, но на плацу она не могла маршировать, как все остальные. Когда мы возвращались в барак, я растирала ей ноги и руки, но они почему-то не согревались, а холод передавался мне.
Это случилось за неделю до Рождества. Утром Бетси не смогла двинуть ни рукой, ни ногой. Я бросилась в центральный барак. В этот день дежурила Змея.
– Пожалуйста, помогите, – взмолилась я, – моя сестра больна, ей надо в госпиталь!
– Докладывайте по форме! Ваш номер?
– Ах да… заключенная № 66730 докладывает… Умоляю, помогите!
– Все заключенные должны называть свои номера. Если она больна, то ее следует зарегистрировать в госпитале.
Я и одна голландка по имени Марика понесли Бетси к госпиталю, соединив свои руки наподобие сидения.
Мерный звук марширующих ног раздавался по всему лагерю. Подойдя к госпиталю, мы остановились – очередь на медицинский осмотр тянулась от главного входа вдоль всего здания и заворачивала за угол. Три человека лежали на грязном снегу, прямо там, где упали. Без лишних слов мы повернули обратно. После поверки мы отнесли Бетси в барак. Она пыталась что-то сказать, но речь ее была медленной и неразборчивой.
– Концентрационный лагерь, Корри, лагерь… Но мы ответственны за…
Я наклонилась, чтобы разобрать слова. Бетси говорила о лагере, но не об этом, а о каком-то другом, где люди, испорченные идеями зла и насилия, будут учиться жить по-новому. Там не будет стен с колючей проволокой, а окна в бараках – очень большие.
– Это так полезно для них… смотреть, как растут цветы и деревья. Люди учатся любить у цветов.
Бетси говорила о наших мучителях, о Змее…
– Значит, лагерь будет в Германии? Вместо того большого дома в Голландии?
– Нет, нет! – сказала Бетси испуганно. – Конечно, сначала тот большой дом… он уже готов и ждет нас… Такие высокие, высокие окна… и солнечные лучи сквозь стекла…
Приступ кашля перебил ее. Когда наконец она затихла, я увидела на соломе кровь. Бетси впала в полузабытье и пролежала так день и следующую ночь. Изредка просыпаясь, она говорила об одном и том же.
– Эти бараки серые, Корри, но мы их выкрасим в зеленый цвет. Яркий светло-зеленый, какой бывает весной…
– Мы всегда будем вместе, Бетси? Ведь все это мы будем делать вместе? Ведь так?
– Всегда вместе, Корри, ты и я… Всегда вместе…
Когда на следующее утро прозвучала сирена, мы с Марикой опять понесли Бетси на поверку. Но не успели мы сделать несколько шагов, как к нам направилась Змея.
– Несите ее в барак.
– Я думала, что все заключенные…
– Несите ее обратно!
Мы вернулись и положили Бетси на нары. Неужели атмосфера барака № 28 смягчила даже жестокосердную фройляйн?
После поверки я кинулась в барак и увидела возле наших нар Змею с двумя санитарами. Она как-то виновато выпрямилась и велела санитарам вынести заключенную.
Я пристально посмотрела на нее: «Что заставило Змею, не испугавшись вшей и блох, спасти Бетси от утренней поверки и отправить в госпиталь?» Она не остановила меня, когда я пошла следом за носилками. В этот момент группа женщин входила в барак, и одна полька упала на колени и перекрестилась.
Минуя очередь, мы вошли в госпиталь. Санитары опустили носилки на пол, и я наклонилась, чтобы разобрать слова, которые шептала Бетси.
– …должны рассказать людям, чему мы научились здесь. Они послушают нас, Корри, потому что мы были здесь…
Я всматривалась в изможденное лицо моей сестры.
– Но когда это будет, Бетси?
– Очень скоро. В первый же день нового года нас здесь не будет!
Медсестра посмотрела на меня, и я попятилась к двери. Бетси положили на узкую койку рядом с окном.
Выбежав на улицу, я бросилась к окну. Бетси увидела меня. Мы обменялись улыбками и беззвучными словами. Но тут меня заметили охранники и крикнули, чтобы я убиралась.
На следующий день, около полудня, я отложила вязание и пошла в центральный барак.
– Заключенная № 66730 докладывает: разрешите пойти в госпиталь! – я стояла прямо, как палка.
Змея посмотрела на меня и выписала пропуск. На улице шел снег. Я подошла к госпиталю, но злющая медсестра не впустила меня, несмотря на пропуск. Я снова пробралась к окну и тихонько постучала. Бетси лежала с открытыми глазами. Она медленно повернула голову.
– Как ты? – спросила я, старательно выговаривая слова.
Она кивнула.
– Ты должна хорошо отдохнуть.
Она сказала что-то в ответ, но я не понимала. Бетси снова зашевелила губами. Я прижалась к стеклу.
– …так много нужно сделать…
На следующий день дежурила другая надзирательница, и я не получила пропуска. Утром, сразу же после поверки, я без разрешения побежала к заветному окну. Возле Бетси стояли две медсестры. Я отпрянула в сторону и, подождав немного, снова посмотрела. На койке лежало обнаженное тело, словно вырезанное из желтоватой слоновой кости. Я видела каждое ребрышко и очертания зубов, проступавших сквозь кожу. Прошла минута, прежде чем я поняла, что это Бетси…
Медсестры взялись за концы простыни, подняли тело и понесли его из палаты. Мое сердце начало учащенно биться.
«Бетси! Но… так много надо сделать! Она не… Куда они ее понесли? Куда они пошли?»
Я побежала вдоль стены, сердце билось так, что болела грудь. Потом я вспомнила о туалете на первом этаже.
«Окно… Там были эти…»
Я завернула за угол и бросилась к окну. Но когда мои руки ухватились за раму, я вдруг остановилась.
«Неужели она здесь? Они положили ее на пол?»
Я спрыгнула на землю и быстро пошла. Мне казалось, что я иду очень долго, и снова с этой болью в груди. Но ноги вели меня к окну.
«Но я не могу войти! Ее там нет…»
И я снова иду. Удивительно, что никто из охранников не остановил меня.
– Корри!
Я обернулась и увидела Майен.
– Корри! Я ищу тебя повсюду, идем скорее!
Она схватила меня за руку и потащила за здание больницы. Когда я увидела, куда она меня ведет, я вырвала руку и сказала:
– Я знаю, Майен, я уже знаю.
Но она будто не слышала и, схватив меня за руку, снова потащила к окну. Майен буквально впихнула меня внутрь. Посреди отвратительной комнаты стояла медсестра, я бросилась обратно, но сзади оказалась Майен.
– Это сестра, – сказала она.
Я увидела ряд обнаженных трупов вдоль стены. Мне не хотелось смотреть. Но Майен положила мне руку на плечо и повела дальше. Мы остановились около двери.
– Корри! Ты видишь ее? Посмотри на ее лицо! Передо мной лежала Бетси. Глаза ее были закрыты, как будто во сне. Ее лицо – свежее и молодое! Следы голода и болезни исчезли. Передо мной была Бетси из Харлема – счастливая и спокойная. Сильнее! Свободнее! Это была Бетси из Царствия Божия – светящаяся радостью и здоровьем. Даже волосы ее лежали так красиво, словно ангел небесный убрал их… Медсестра открыла дверь.
– Вы можете выйти через коридор, – сказала она мягко.
Я посмотрела на Бетси в последний раз, на ее спокойное, радостное лицо. И мы пошли вместе с Майен.
Около двери лежала куча одежды, а сверху – голубая кофта. Я наклонилась, чтобы взять ее: это была последняя связь с Бетси.
– Не надо, Корри, – сказала Майен, – не дотрагивайся! Одежда заражена черными вшами, ее сожгут.
Итак, мне не осталось от Бетси ничего материального. Но это было даже лучше. Теперь только Господь связывал нас.
***
Красота Бетси после смерти не давала мне пасть духом, и я рассказывала всем, кто любил ее, о мире и радости на ее лице.
Через два дня на утренней поверке не досчитались одного номера из нашего барака. Все бараки были отпущены, кроме нашего. По громкоговорителю объявили, что пропала женщина, и все будут стоять на плацу, пока ее не найдут. Левой, правой, левой, правой – звук марширующих ног. Начало всходить зимнее бледно-желтое солнце, которое не могло согреть. Я посмотрела на свои ноги: ступни и щиколотки распухли и сделались как надувные. К полудню я перестала их чувствовать совсем.
«Какая ты сегодня счастливая, Бетси! Теперь тебя не мучают ни голод, ни холод и ничто не стоит между тобой и Отцом Небесным».
В полдень нас отпустили. Пропавшая женщина была найдена мертвой на верхних нарах.
На следующее утро во время поверки из громкоговорителя раздались слова: «Тен Боом Корнелия!»
Какое-то время я продолжала тупо маршировать на месте. Я так долго была номером 66370, что перестала реагировать на собственное имя. Потом вышла вперед.
– Встаньте в сторону!
«Что будет дальше? Почему меня вывели из строя? Неужели кто-то рассказал про Библию?»
С того места, где я стояла, была виден весь лагерь, и десятки тысяч марширующих людей, и белый пар от их дыхания, висящий над рядами.
Завыла сирена, и охранница сделала мне знак следовать за ней. С трудом передвигаясь на распухших ногах, я старалась не отставать. Вскоре мы вошли в административный барак.
Несколько заключенных стояли возле стола, за которым сидел молодой офицер. Он поставил печать на какой-то листок и протянул его женщине.
– Свободна!
«Свободна? Эта женщина свободна? Мы все…» Офицер назвал имя следующей заключенной. Подпись, печать, «Свободна!» Наконец я услышала свое имя и подошла к столу. Офицер поставил подпись и печать, и через секунду я держала в руках драгоценный листок с моим именем, датой рождения и большими черными буквами наверху «Свидетельство об освобождении».
Как во сне я вместе со всеми пошла по длинному коридору к другому столу, где мне выдали пропуск на железную дорогу до голландской границы. Затем охранница указала мне на комнату, где заключенные, получившие пропуск раньше меня, снимали одежду и складывали ее возле стены.
– Раздевайтесь здесь, – сказала дежурная, улыбаясь – медицинская экспертиза.
Я сняла через голову платье вместе с Библией, свернула, заткнула под кучу одежды и присоединилась к другим заключенным. Я прислонилась голой спиной к шероховатой деревянной стене и вдруг почувствовала, что эта тюремная процедура стала мне отвратительна вдвойне после слова «свободна».
Наконец вошел врач – веснушчатый молодой парень в военной форме. Он презрительно окинул взглядом нашу жалкую шеренгу. Одна за другой мы подходили к нему, наклонялись, поворачивались направо и налево, растопыривали пальцы. Когда подошла моя очередь, врач посмотрел на мои ноги и с отвращением поджал губы.
– Эдема. Госпиталь.
Доктор вышел. А я и еще одна женщина, кожа и глаза которой были темно-желтого цвета, начали медленно натягивать свою одежду.
– Значит, мы не… Нас не освободят?
– Как только вы поправитесь, вас выпустят, – сказала дежурная. – Мы выпускаем только с удовлетворительным состоянием здоровья.
Темнело. Серое скучное небо роняло снег. Мы пошли по лагерю вдоль нескончаемых бараков.
Очередь в госпиталь тянулась вдоль всего здания. Нас впустили сразу же и затем отвели в палату, где стояли двухъярусные койки. Мне указали на верхнюю, рядом с женщиной, покрытой гноящимися нарывами. Но хорошо, что мое место было рядом со стеной и я могла, опираясь на нее, держать ноги поднятыми, чтобы скорее спала опухоль. Теперь самое главное для меня – пройти медицинскую экспертизу.
То ли предвкушение свободы сделало мои нервы слабее, то ли Равенсбрук стал уж совсем диким и безбожным местом, но в госпитале людские страдания казались мне просто невыносимыми.
Здесь лежали заключенные, попавшие по дороге в лагерь под бомбежку. Женщины были искалечены и кричали от боли. Но две медсестры только усмехались и, кривляясь, передразнивали их.
В госпитале я увидела полное равнодушие друг к другу. Это равнодушие – одно из самых страшных заболеваний концентрационного лагеря. Его симптомы я нашла и в себе. Да и как можно было выжить в таких условиях, оставаясь чувствительной! Гораздо удобнее и спокойнее было думать о своих болях, чем о чьих-либо еще. Не видеть, не слышать…
Но это было невозможно. Ночью я услышала, как кричали женщины, прося судно: многие не могли дойти до грязного туалета.
В конце концов я опустила ноги, слезла вниз и подала судно нескольким женщинам. Благодарность была свыше всякой меры: «Кто вы? Почему вы это делаете?» Как будто жестокость и бездушие были нормой, а элементарное внимание – настоящим чудом.
Когда серый рассвет показался за окном, я вспомнила, что сегодня Рождество.
Каждое утро я ходила на осмотр, и каждый раз диагноз был один: «Эдема ступней и щиколоток». Многие женщины, с которыми я встретилась там, были тоже освобожденными. Некоторых освободили несколько месяцев назад, и их свидетельства и пропуска истрепались до дыр.
«А если бы Бетси была жива? Наверно, мы сейчас были бы вместе. Но она никогда не прошла бы медицинскую экспертизу. И если бы я прошла, а она… Но в Царстве Божием не может быть никаких «если бы». У Него свой счет. А Его воля – наш покров. Господь Иисус, дай мне исполнить Твою волю! Не дай мне сойти с ума, блуждая в потемках и не ведая ее!»
Я думала, кому бы оставить Библию. Как легко будет купить еще одну в Голландии, и не одну, а сколько угодно! В палате немногие могли читать голландский текст, и в конце концов я отдала Библию женщине из Утрехта. Она была очень благодарна мне за это.
На шестой день моего пребывания в палате таинственно исчезли сразу два судна. Кто-то крикнул, что их утащили и спрятали под одеяла две цыганки, чтобы не вставать в туалет. Эти женщины лежали на верхних койках. У одной из них была гангрена на ноге, и она выставляла ее навстречу каждому, кто подходил. Я приблизилась к их койкам и попросила, чтобы они вернули судна, хотя не была уверена, что они понимают по-немецки. Вдруг что-то мокрое и липкое обвилось вокруг моего лица – цыганка сняла бинт с ноги и швырнула в меня. Всхлипывая, я бросилась по коридору в туалет и там мыла и терла лицо и руки под струей ледяной воды.
«Я больше никогда не подойду к ним! Никогда! Какое мне дело до этих дурацких «уток»! Я больше не могу…»
Но я снова пошла к цыганкам. За этот год я научилась оценивать свои силы – что я могу и что не могу. Когда цыганки увидели меня, оба судна с грохотом полетели на пол.
На следующее утро дежурный врач поставил печать на моем свидетельстве об освобождении. Время, которое раньше тянулось так медленно, полетело с головокружительной быстротой. Мне выдали одежду: шерстяную юбку и красивую шелковую блузку, кожаные туфли, почти новые, а также шляпу и пальто. Мне дали подписать документ о том, что я никогда не болела в Равенсбруке и что обращение было хорошее. Я подписала. В другом здании я получила порцию хлеба и продуктовые купоны на три дня. Мне вернули мои часы, деньги и мамино кольцо.
<...>
Поезда приходили, поезда уходили. Я садилась и выходила. Наконец я оказалась на маленькой пограничной станции и, встав в очередь на таможенный контроль, увидела ее название – «Ниверханс». Я была дома…
По дороге к платформе ко мне подошел человек в голубой форме.
– Я помогу вам, вы далеко не дойдете с такими ногами.
Он говорил по-голландски. Я повисла на его руке, и он довел меня до платформы, где уже стоял поезд. Я была в Голландии. Поезд тронулся. За окном проплывали покрытые снегом поля. Я была дома. Голландия была по-прежнему оккупирована, и немецкие солдаты стояли то тут, то там. Но я была дома…
Поезд шел только до Гронингена. Дальше железной дороги просто не было, и все поезда были отменены. Собравшись с последними силами, я дохромала до госпиталя, который находился недалеко от станции.
<...>
Я была дома. Жизнь, как и время на часах, потекла опять. Утром – мастерская, днем – поездки на велосипеде на Бос ен Ховен-страт. И все же… Удивительное дело, но я не была дома. <...>
Наш дом опустел. Я вспомнила слова отца, которые он сказал офицеру гестапо в Гааге: «… я открою дверь любому, кто постучится за помощью».
Пожалуй, больше всего в помощи нуждались умственно отсталые. Германское правительство считало их жизнь нецелесообразной, поэтому специальные школы были закрыты, а их самих приходилось прятать на чердаках и в подвалах.
Вскоре в моем доме поселились несколько таких людей. Они по-прежнему не могли выходить на улицу, но все-таки здесь обстановка для них была лучше: они общались друг с другом, а я занималась с ними.
Но я все-таки не могла найти себе места. Я была дома, у меня была работа и любимое занятие, но… Иногда я ловила себя на том, что целый час сижу и смотрю в пустоту. Подмастерья, которых наняла Тос, были первоклассными работниками, и я проводила в мастерской все меньше времени. Я не находила там того, что искала. Этого не было и наверху, хотя я очень любила людей, за которыми ухаживала. Ради Бетси я купила цветы, но они все завяли, потому что я забывала их поливать.
Возможно, я скучала по подполью. Когда группа Национального Освобождения предложила мне выполнить небольшую работу, я с радостью согласилась: надо было передать в тюрьму фальшивые документы и свидетельства об освобождении. Что могло быть проще, чем пронести эти бумаги через знакомую деревянную дверь! Но как только эта дверь закрылась за мной, мое сердце затрепетало от страха: «А что будет, если я уже не выйду отсюда? Вдруг это ловушка?»
Появился молодой лейтенант с рыжими волосами.
– Я вас слушаю?
Это был Рольф. Но почему он не узнает меня? Я уже арестована?
– Рольф, – сказала я, – ты меня не помнишь?
Он пристально посмотрел на меня, как бы пытаясь вспомнить.
– О да! – сказал он мягко. – Дама из часовой мастерской! Я слышал, что вы уезжали ненадолго…
Я вытаращила глаза. Рольф прекрасно знал, что… И тут до меня дошло, где мы находимся: в центральном полицейском участке, с немецкими солдатами, которые смотрят на нас, а я обратилась к нашему товарищу по имени, практически намекнула на существование каких-то отношений между нами, в то время как основным правилом подполья было… Как я могла быть такой тупой?
Мои руки тряслись, когда я отдавала Рольфу документы.
– Эти бумаги можно передать только с разрешения шефа полиции и военного представителя. Приходите завтра к четырем часам, так как шеф будет занят до…
Но я уже не слушала дальше. При слове «завтра» я попятилась к двери и выскочила на улицу. Я постояла немного на тротуаре, пока мои колени не перестали дрожать. Если бы мне когда-нибудь понадобилось доказательство моей тупости и трусости, то я его получила. Очевидно, вся моя прежняя хитрость и изворотливость были тоже под наблюдением Божиим. Теперь было ясно, что Господь лишил меня этих качеств. Я поплелась домой. Повернув на нашу улицу, я вдруг поняла, кого искала – это была Бетси.
Именно по Бетси я скучала все эти дни. Именно Бетси я надеялась найти здесь, в Харлеме, в часовой мастерской, в доме, который она любила. Но ее здесь не было. И вдруг, впервые с момента ее смерти, я вспомнила: «Мы должны рассказать людям, Корри, мы должны им рассказать все, чему мы научились».
И я стала рассказывать. Я подумала, что если это дело поручено мне Богом, то Он даст мне и силы, и слова, и храбрость. Я разъезжала на своем велосипеде по улицам и пригородам Харлема, говоря о том, что радость сильнее отчаяния. Именно это хотели услышать люди весной 1945 года. Ни одно дерево в Харлеме не цвело, поля не пестрели тюльпанами – все бутоны погибли. Ни одну семью не обошла трагедия. Везде – в церквах и частных домах – я рассказывала об истине, которую мы познали в Равенсбруке, о мечте Бетси открыть дом для людей, истерзанных войной, где они научились бы жить заново, без страха и ненависти.
На одном из таких собраний ко мне подошла стройная, аристократического вида женщина. Я узнала ее: это была миссис Биренс де Ган, чей дом в пригороде Харлема считался самым красивым в Голландии. Я никогда не видела этот дом, а только верхушки деревьев огромного парка. Миссис де Ган спросила меня, живу ли я по-прежнему в старинном доме на Бартельорис-страт.
– Моя мать рассказывала мне о нем. Она частенько ходила туда, чтобы повидаться с вашей тетушкой, которая занималась благотворительностью.
В одно мгновение я представила себе вихрь атласного платья тети Янс, стоящей на верхней ступеньке лестницы…
– Я вдова, – сказала миссис де Ган, – у меня пятеро сыновей в Сопротивлении, четверо из них живы и здоровы. А о пятом мы ничего не знаем с тех пор, как его увезли в Германию. И вот сейчас, когда я слушала вас, какой-то внутренний голос сказал мне: «Ян вернется домой, и в благодарность за это ты откроешь свой дом для людей, как хотела Бетси тен Боом».
Через две недели почтальон принес надушенный конверт, в котором была короткая записка: «Ян дома».
Миссис Биренс де Ган встретила меня у входа в усадьбу. По дубовой аллее мы вышли к большому особняку. Два садовника работали на клумбе с цветами.
– Сад здорово зарос, – сказала миссис де Ган. – Я хочу придать ему форму. А вы действительно считаете, что садоводство может быть лекарством?
Я ничего не ответила. Я смотрела на двускатную крышу и красивые окна. «Такие высокие-высокие окна…»
– Скажите, – у меня пересохло горло, – скажите, а внутри дома полы пахнут свежим деревом? И вокруг центрального зала, широкая галерея украшенная статуэтками?
Миссис де Ган посмотрела на меня с удивлением.
– Вы были здесь? Но я не помню… ‘
– Нет, – ответила я, – мне рассказывали…
Я осеклась. Как я могла объяснить то, чего не понимала сама?
– …те, кто был здесь, – закончила миссис де Ган, не понимая моего замешательства.
– Да, – сказала я, – те, кто был здесь.
Во вторую неделю мая союзники вошли в Голландию. Все дома были украшены голландскими флагами, а по радио играли Вильгельмуса. Канадская армия привезла в город продовольствие.
В июне первые жители прибыли в прекрасный дом в Блумендале. Замкнутые или открыто рассказывающие о своих бедах, подавленные или агрессивные -все они были искалечены войной. Некоторые вернулись из концентрационных лагерей, другие провели эти годы на чердаках и в подвалах. Среди них была миссис Кан, вдова нашего бывшего «конкурента», умершего во время оккупации, – сгорбленная, седая женщина, которая вздрагивала от любого звука.
В 1947 году мы приняли несколько голландцев, побывавших в плену у японцев в Индонезии. Познакомившись с другими обитателями Блумендаля, они поняли, что их страдания не были исключительными.
И для всех этих людей путь к исцелению лежал через прощение: прощение соседа, который их выдал, прощение жестокости, прощение зла.
Труднее всего было прощать не немцев, а тех голландцев, которые присоединились к ним. Теперь их положение было незавидным – бездомные, всеми презираемые.
Сначала я думала, что следует дать возможность этим людям пожить в Блумендале бок о бок с теми, кому они причинили столько зла. Я надеялась, что возникнет обоюдное сострадание. Но это оказалось преждевременным для людей, которые только начинали залечивать свои раны. Два раза я делала попытку свести их, но эти встречи заканчивались открытой враждой.
Как только в стране начали открываться школы и интернаты для умственно отсталых и можно было туда передать моих жильцов, я решила превратить дом на Бартельорис-страт в убежище для бывших нацистов.
Так протекала жизнь после войны: экспериментируя, ошибаясь, делая выводы, я искала путь к искалеченным душам. Наш режим был очень свободным, и некоторые обитатели злоупотребляли этим: поздно возвращались, вызывающе вели себя, мешали другим на вечерних и утренних службах. Но я не могла ругать или лишать их за это свободы.
Постепенно, каждый по-своему и в свое время, все эти люди сумели преодолеть внутреннюю боль и ненависть. Как предсказывала Бетси, очень часто это происходило благодаря работе в саду. Когда цветы начинали распускаться, овощи и фрукты – поспевать, мы больше разговаривали о завтрашней погоде, нежели о прошлых горестях. По мере того, как изменялись жители Блумендаля, я рассказывала им о тех, кто жил на Бартельорис-страт, о людях, которые не получали писем и которых никто не навещал. И если мои рассказы о бывших нацистах не вызывали вспышку праведного гнева, то я знала: исцеление близко. А когда мой подопечный говорил: «Неужели эти люди ухаживают за комнатной морковкой?», я знала – чудо совершилось.
Я продолжала говорить так, как чувствовала, зная, что люди нуждаются в этом. Я объездила всю Голландию, была в других странах Европы и в Соединенных Штатах.
Но самой нуждающейся страной была Германия, вся в руинах, с разрушенными городами. А самое страшное – выжженные сердца и души. Стоило только пересечь границу этой страны, чтобы почувствовать невероятную тяжесть.
Однажды в Мюнхене, в церкви, я увидела бывшего охранника из Равенсбрука, офицера СС. Это был первый мой мучитель, которого я встретила на свободе. Все вдруг встало перед глазами: и ухмыляющиеся охранники, и бледное, измученное лицо Бетси… Он подошел ко мне после службы, улыбаясь и кланяясь.
– Как я признателен вам за ваш рассказ, фройляйн! Как это верно! Христос искупил мой грех…
Он протянул мне руку. А я, которая убеждала людей прощать своих врагов, не смогла поднять своей. Гнев, желание отомстить захлестнули меня. Единственное, что я могла сделать, это сказать про себя: «Господи, прости меня! И дай мне, Господи, сил простить этого человека!»
Я даже пыталась улыбнуться, поднять руку. И не могла. В моей душе не было ни жалости, ни тепла. И я снова и снова молила Иисуса, чтобы Он дал мне силы простить этого человека. Наконец я протянула руку, и тут случилось что-то невероятное – словно электрический заряд прошел между нами! И сердце мое наполнилось любовью и состраданием к этому человеку.
Тогда я поняла, что Господь, призывающий нас любить своих врагов, дал нам и саму любовь…
Этой любви нужно было очень много, чтобы помочь голодным и бездомным жителям Германии. Церковная община попросила меня выступить перед людьми, живущими в пустующей фабрике.
Эта фабрика внутри была сплошь увешана простынями и одеялами, имитирующими стены. Через эти «стены» свободно проходили все звуки – радио, детский плач, крики и брань. Как я могла говорить перед этими людьми? Прежде чем учить их любви и прощению, нужно было самой пожить в таких условиях. Я осталась на фабрике и провела там несколько месяцев.
Как-то на эту фабрику приехал лидер одной немецкой освободительной организации. Он сказал, что знает о проводимой мною в Голландии работе по реабилитации и хотел бы попросить меня… Я была готова отказаться, но его слова заставили меня онеметь.
– Мы нашли прекрасное место для этой работы – бывший концентрационный лагерь.
Мы поехали в Дармштадт. Лагерь был по-прежнему окружен рядами колючей проволоки. Я медленно шла по гаревому плацу, мимо нескончаемых рядов серых бараков. Я толкнула дверь одного из них и оказалась между рядами металлических коек.
– В каждом бараке будут огромные окна, – сказала я. – Мы уберем колючую проволоку, а потом все выкрасим в светло-зеленый цвет. Яркий светло-зеленый, какой бывает весной…
Публ. по: Корри тен Боом, Джон и Элизабет Шерилл. Убежище. Корри тен Боом рассказывает о своей жизни в 1892-1945 годах