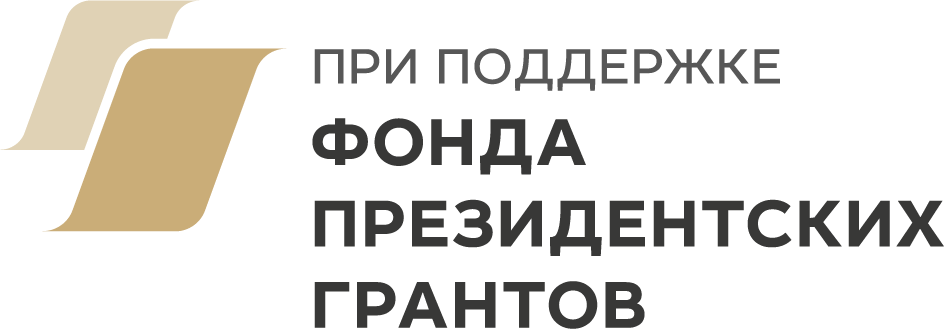«Поняла, что в хосписе работать не смогу»
– Я заметила, что во всех интервью и в соцсетях ты стараешься говорить только про работу и почти не говоришь про себя. Почему так?
– С точки зрения построения личного бренда, наверное, было бы правильно говорить и писать в соцсетях побольше личного, делиться эмоциями. Но мне сложно, хотя по натуре я довольно открытый человек. Опасаюсь открывать эту бездну. У меня был один пост про HR, где я рассказывала, как собираю команду, по какому принципу выбираю людей. Ко мне туда в комментарии пришли разные люди, довольно известные консультанты, было три сотни комментов и какой-то холивар. Я тогда внутренне содрогнулась. Понятно, что ведение блога – это технология, со своей стратегией и рисками, но я пока не готова брать на себя эти риски.
– Я нигде не нашла историю про то, как ты попала в благотворительность и даже где ты училась. Расскажешь?
– После школы училась рекламе и журналистике. И умудрялась это совмещать с активным волонтерством. И потом я еще много где училась, например, в Шанинке, на курсе по фандрайзингу. А сейчас на похожем курсе преподаю, только в РУДН. Жизнь сделала круг. Но, несмотря на это, я все равно постоянно где-нибудь учусь.
– Как тебя с журфака занесло в благотворительность?
– Совершенно случайно. Учитывая мое волонтерское прошлое, где мы постоянно кому-то помогали, КАФ (признан в РФ иноагентом) – движение в том же направлении, но помогают еще так интересно: не рыбкой, а удочкой. Для меня это было принципиально, я и сейчас придерживаюсь того же мнения.
– Почему ты выбрала КАФ (признан в РФ иноагентом) и PHILIN, то есть инфраструктурные проекты, а не адресную помощь?
– Однажды я проходила собеседование, чтобы устроиться в хоспис. Собеседование проводила Вера Миллионщикова – потрясающая женщина, она произвела на меня неизгладимое впечатление. Но на работу я идти отказалась, поняла, что просто не вывезу. По работе я стараюсь не погружаться в адресную помощь. В КАФе (признан в РФ иноагентом), конечно, я не держала за руку умирающих людей, но поток личных историй и переживаний. Знаешь, это ощущение многосоставной сложности жизни и глобальное чувство несправедливости. Но в целом понимание того, что ты помогаешь не ситуативно, а комплексно, и это в перспективе изменит жизни многих людей, помогает держать фокус. Мне ближе взгляд на происходящее целой картинкой, а не кусочками.
«Я не верю в тайм-менеджмент»

– Ты трудоголик?
– Можно и так сказать.
– Как думаешь, почему люди много работают? И в бизнесе, и в некоммерческом секторе? Я вот думаю, может быть я так работаю, потому что плохо умею планировать…
– Люди очень разные, у всех разный темп работы. Но я совершенно четко вижу в нашем секторе: чтобы оставаться на месте, нужно бежать со всех ног. Я, кстати, не верю в тайм-менеджмент. Я прошла много тренингов, мне казалось, что я не дорабатываю в этом вопросе. Потом поняла – нужно принять себя такой, какая я есть. Прежде чем выполнить аналитическую работу мне нужно настроиться, и я не могу планировать и прогнозировать время, которое у меня эта настройка займет. Есть ситуации, которые просто сложно предугадать, всегда есть элемент неожиданности. Я – фанат планирования, но тайм-менеджмент в том виде, в котором он пропагандируется, мне не подходит.
– Какими ты инструментами пользуешься для планирования?
– Я люблю Trello, но вообще я записываю все и везде, у меня куча заметок. Это позволяет таким паникерам как я чувствовать себя более защищено.
– Ты вообще тревожный человек?
– Тревожный, конечно.
– В благотворительности много тревожных людей?
– Я бы лучше сказала «неравнодушных». Мы живем в мире стрессов, где постоянно что-то ломается или вот-вот сломается. Мне кажется, что наша психика нас бережет и мы еще недостаточно паникуем в соответствии с обстоятельствами вокруг.
– Можешь вспомнить, когда в твоей работе был самый эмоционально сложный момент?
– Я помню, но вот сейчас осознала, что эта история у меня была частично стерта из памяти. Однажды мне пришлось столкнуться с адресной помощью – нужно было позвонить матери больного ребенка и объяснить ей, что она неправильно поступает в определенной ситуации. Я не ощущала, что у меня есть моральное право говорить матери ребенка с болезнью в терминальной стадии, что ей делать. Мне казалось, что говорить с ней должен профессиональный психолог, но уж точно не я. После этого я решила, что больше не буду заниматься адресной помощью. А так, конечно, сложно получать отказы и увольнять людей, но если ты ощущаешь себя правым, то обычно это легче пережить.
– Мне кажется, для начинающих фандрайзеров отказы – самое сложное.
– Да, поэтому мало кто занимается фандрайзингом. Иногда я даже вижу человека в команде, который мог бы стать хорошим фандрайзером, но у него есть страх услышать «нет», тогда его сложно мотивировать заняться этой работой. Я никогда не занималась одним только фандрайзингом. Обычно приходится совмещать фандрайзинг на проекты с руководством этими проектами. Вот недавно я вошла в Совет Ассоциации фандрайзеров. Как говорит одна моя знакомая: «Когда широко шагаешь, главное – штаны не порвать». Так что я шагаю, да.
«Классического PR больше нет»

– У тебя в КАФе (признан в РФ иноагентом) должность называлась «руководитель по маркетингу и коммуникациям». Что вообще такое в маркетинг в благотворительности?
– Какое-то время назад мне приходилось очень долго объяснять благотворительным фондам, что не нужно на фандрайзера и директора вешать PR-задачи – берите пиарщика в штат, чтобы делать эту работу профессионально. Вроде сдвинулись с места. Видишь, сколько вакансий для пиарщиков в НКО сейчас, особенно последние два года? Проблема в том, что за это время PR изменился, нет больше классического PR с пресс-релизами и общением с журналистами. Теперь он интегрировался в маркетинг и диджитал. И получается, что мы на шаг опаздываем, сейчас пора уже искать онлайн-маркетологов и специалистов по контенту. Учитывая, что все коммуникации сейчас интегрированные. Нужно уметь работать с разными аудиториями, формулировать для каждой – свое сообщение и выстраивать коммуникацию, используя разные инструменты.
– Название проекта влияет же на PR и позиционирование. Почему у многих проектов в России похожие имена?
– Да, есть такая проблема, особенно в регионах. Можно создавать просто генератор названий для фондов: берешь слово «добро», «жизнь» и еще какие-нибудь «руки», «помощь» и комбинируешь. Мне кажется, это не совсем профессионально. Но вообще внутри сектора и вне его по-разному воспринимаются слова. Это мы устали от «добра», а обычные люди все еще относятся к нему позитивно.
– «Щедрый вторник», который ты курировала в КАФ (признан в РФ иноагентом), отличается в России от западного формата?
– Суть «Щедрого вторника» – день, когда все делают добрые дела и рассказывают об этом, инициатива открытого кода и драйвер развития культуры благотворительности, – во всех странах одинакова. Отличается коммуникация. Ни у кого не было «Недели признаний», мы ее придумали и сделали первые, а потом несколько стран повторили. А вот конкурс «Щедрая история» как раз сначала появился в США, и мы используем этот формат.
– Расскажи свою «Щедрую историю». Кому ты жертвуешь, например?
– Неловко говорить, потому что я абсолютно спонтанный жертвователь. У меня есть только одна рекуррентная подписка в пользу правозащитной организации. Потому что я хотела бы, чтобы в любой непонятной ситуации человеку мог помочь профессиональный адвокат. Еще хотелось бы поддерживать организацию, занимающуюся инфраструктурой в сфере орфанных заболеваний, но пока я такой не нашла.
Красивых историй у меня почти и нет, все профессиональные. Помню из детства, как мы с дедушкой собирали вещи для людей, пострадавших от землетрясения в Спитаке в Армении. Про нас тогда написали маленькую заметочку, там была фотография, где я с куклой. Дедушка страшно гордился и долго хранил эту газету. Но это история про мою память о дедушке, а не про благотворительность. Никаких ярких историй больше не помню. А казалось бы, человек работает в благотворительности. «Садись, двойка!»
– Почему ты ушла из КАФ (признан в РФ иноагентом)?
– Я проработала там пятнадцать лет, мне захотелось попробовать что-то другое. PHILIN, с одной стороны, тоже про инфраструктуру, а с другой – много новых задач по развитию платформы. Вообще я люблю стартапы, начинать новое и выстраивать процессы так, чтобы все становилось устойчивым. Например, со «Щедрым вторником»: было интересно начать, собрать супер профессиональную команду. Сейчас там все прекрасно работает и, я уверена, будет развиваться.
«Понять свои риски и спокойно работать»

– Что такое PHILIN? Можешь описать это человеку, который ни разу про вас не слышал?
– PHILIN – организация, которая изначально помогала НКО выстроить аутсорсинг производственных функций и брала на себя задачи по бухгалтерии, кадрам, закрывала юридические вопросы. У нас есть финансово-юридический консалтинг, но главное – это комплексное обслуживание, все специалисты в одном месте. Клиент работает через облачный личный кабинет, автоматизированное решение позволяет эффективно выстроить внутренние процессы, структурировать данные и снизить административную нагрузку на персонал НКО.
Один из наших продуктов – CRM-система, которая предназначена для работы с донорами, благополучателями и волонтерами. Сейчас мы становимся шире, последнее время от клиентов появились запросы на стратегический консалтинг, фандрайзинговые стратегии. В донорском сообществе растет запрос на прозрачность и доказательную эффективность. Поэтому сейчас развивается направления due diligence (финансовая, юридическая или другая проверка и оценка объекта или актива – прим.ред), в том числе как отдельная профессиональная услуга под конкретный запрос донора, которому важно эффективное социальное инвестирование.
– Кто ваши основные клиенты?
– Среди клиентов фандрайзинговые, корпоративные и частные фонды. Нам важно, чтобы организация была социально ориентированной, чтобы в ее работе социальный компонент был ключевым.
– В бизнесе due diligence проводят перед покупкой или инвестированием. Зачем НКО due diligence?
– Ты можешь понять свои риски и что нужно исправить, чтобы дальше спокойно работать. Мы для клиентов подсвечиваем риски, даем рекомендации и готовы помочь исправить ситуацию. Дело в том, что внутри сектора кажется, что мы задавлены отчетностью и прочими требованиями, но на самом деле это смотря с чем сравнить. В одном из исследований Центра управления благосостоянием и филантропии Сколково посчитали объем некоммерческого сектора – 400 млрд рублей с небольшим. Сейчас я от некоторых экспертов слышала о 600 млрд. руб. Не такие уж мы и большие, чтобы нас «кошмарить», поэтому многие НКО спокойно относятся к рискам. У большинства НКО есть проблемы с ведением финансов, с кадрами, налогами. Мы сейчас готовим обобщенную аналитику по рискам по итогам углубленных due diligence нескольких десятков организаций. Это даст нам общую картину рисков, с которыми сталкиваются НКО.
– Можешь назвать самый большой риск?
– Нецелевое использование средств. И не важно по какой причине, скорее всего, речь не пойдет о злом умысле, часто это именно административная ошибка. Но от этого всерьез зависит доверие донора, общественности. Порядок и четкость в финансовых вопросах позволяет организации не боятся прозрачности, запрос на которую растет.
– Почему на твой взгляд сейчас так много проектов на грани закрытия или, как минимум, говорят, что они на грани? Недавно даже Чулпан Хаматова приходила в «Вечерний Ургант» и говорила, что «Подари жизнь» думают закрывать часть программ.
– У «Подари жизнь» все-таки специфическая ситуация, там изменились протоколы лечения, появились принципиально новые лекарства, которые стоят совершенно других денег.
– Но другие-то просто от недостатка денег закрываются. Кто-то из-за потери финансирования якорных спонсоров, из какой-то темы ушли иностранные фонды и так далее.
– Тяжелый вопрос. Мне кажется, когда сектор только начинал формироваться он состоял из энтузиастов, неравнодушных людей – они не могли пройти мимо. Сейчас сюда приходит все больше профессионалов, которые хотят просто работать и достигать результатов. Сектор неоднородный, и разрастается пропасть между одними и другими. К сожалению, не возникает никакой преемственности, им сложно договариваться и находить общий язык. Фонды закрываются или находятся на грани потому что люди – не боги, они не могут переобуваться в воздухе. Кто-то не может, кто-то не хочет играть по новым правилам. Рассуждают: вот есть у меня маленький фондик, я знаю всех подопечных по именам, я не хочу превращаться в бездушного гиганта. Им кажется, что если они будут масштабироваться, то потеряют себя.
– То есть тренд – масштабирование проектов?
– Да, я так думаю. Сейчас даже бизнесу, если он крошечный, очень сложно выжить. Хотя, разумеется, в этом правиле тоже есть исключения, особенно в регионах.
– Могут ли фонды выживать без корпоративной и без государственной поддержки?
– До определенного момента – да. Я верю в горизонтальные коммуникации, в «Новую власть» (одноименная книга Джереми Хейманса и Генри Тиммса – прим ред). Примеры таких фондов есть, но в основном это небольшие или средние фонды. Стать крупным без государства или крупного донора, мне кажется, пока не получится, возможно, мы еще как общество не дошли до такого уровня общественного сознания, чтобы так много и массово жертвовать.
– Какие проекты из недавних тебе понравились больше всего?
– Знаешь, я очень верю в регионы, там много классных идей. В этом году я была на конференции Фондов местных сообществ, там было много женщин из разных концов страны. Я была так поражена и вдохновлена их силой, энергией, что они там практически без ресурсов сдвигают такие глыбы.
– А у регионов есть лифт, возможность масштабироваться, доступ к ресурсам?
– Многие региональные проекты получают президентские гранты. Понятно, что этого недостаточно и надо крутиться, но все же. Плюс технологии. У «Теплицы социальных технологий» (признана в РФ иноагентом) есть проекты, которые делают технологии доступнее, что-то можно получить вообще бесплатно. К сожалению, CRM нельзя получить бесплатно. Кажется, что можно, но на самом деле – нет. Потому что нужны лицензии, доработки, интеграции. Это такой же замкнутый круг, как с поиском фандрайзера: нет денег на фандрайзера, а без фандайрзера – не будет денег. Так и здесь. Хоть ты тресни, если не найдется денег на развитие, то ты – труп. Если мы решаем только задачи сегодняшнего дня – дальше мы не двигаемся.
«Я не верю ни в какое светлое будущее»

– Давай закончим на приятном. Расскажи, какой ты видишь прекрасную Россию будущего. Ну, в контексте нашего сектора.
– Я скорее деятельный реалист и не верю ни в какое светлое будущее. Но верю в людей. Не знаю, что нас ждет, но точно будет непросто. Мне кажется, мы очень сильно зависим от экономической и политической ситуации. Мы сдвинули тектонические плиты за последние 25 лет. Вспомни 90-е, как там относились к людям с инвалидностью, как забирали детей из детских домов, что происходило с носителями ВИЧ. Многое изменилось. Но сейчас закон об инагентах и экономическая ситуация в целом откидывает нас на годы назад. Гораздо сложнее становится привлекать средства. Устойчивость может дать наличие разных источников финансирования, развитие массового фандрайзинга. Если посмотреть на показатели частных пожертвований, то они пока довольно оптимистичные.
– Что тебя сейчас вдохновляет в работе?
– Меня вдохновляет фокус PHILIN на организационное развитие и профессионализацию НКО. Это как с человеческим организмом – нужно следить за собой, делать check up (регулярный комплексный медицинский осмотр – прим. ред), устранять неполадки и переходить на следующий, системный уровень развития. Мне бы хотелось, чтобы в НКО была выстроена не только грамотная работа с подопечными, но и с самими собой, как с живым организмом. Это необходимо, чтобы масштабироваться и расти. Про это пока мало говорят, мне хочется больше обмениваться опытом, делиться данными, искать решения и инструменты. Это новая сфера, она очень драйвит меня сейчас.
Фото: Михаил Кончиц