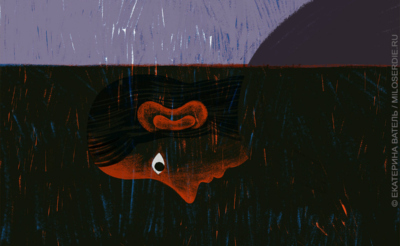В 2008 году у Михаила пропал дядя. Тогда и отряда «ЛизаАлерт» еще не было. С тех пор мужчину так и не нашли, и много лет, вспоминая брата, мать Михаила плачет, а сам Михаил говорит: «Теперь я понимаю, почему человека продолжают искать, даже когда шансов найти живым уже нет. Любая трагедия лучше, чем неизвестность».
Правда, в поисковый отряд Михаила привело не это семейное обстоятельство.
Хотелось адреналина и… приносить пользу
– В 2010-х я жил в Тульской области, и в 19 лет отец разрешил мне сесть за руль семейного джипа, – вспоминает Михаил. – Там возле Ефремова есть трасса, которую постоянно переметает – около дороги нет леса, ветер несет снег через шоссе, на асфальте образуются сугробы, и фуры встают. Они, большие и тяжелые, на заметенной дороге стоят, а внедорожник, легкий и мощный, проходит. Я ездил к водителям таких фур – кому горячего чаю привезти, кому за сигаретами сгонять. Для меня это был адреналин, да и пользу хотелось приносить. А вот летом было скучно.
Но однажды на глаза Михаилу попалась ориентировка «ЛизаАлерт» на мальчика, пропавшего в соседней области, и он заинтересовался – что за поисковый отряд? В его родном Ефремове отделения «ЛизаАлерт» не было, но он нашел поисковиков в ближайшей Туле.
Понравилось само поисковое дело, его продуманная система и строгая дисциплина. Но чем глубже Михаил вникал в вопрос, тем яснее понимал, что рядовой поисковик из него не получится. В уставе отряда есть правило, которое запрещает волонтерам выходить на поиск в одиночку – нужна хотя бы пара. Нужно поисковое оборудование. «Хороший навигатор в 2018-м стоил тысяч тридцать, а зарплата у меня была тринадцать. Пришлось искать другое применение», – смеется Михаил.
Закончив специальные курсы, Михаил стал информационным координатором – инфоргом в возникшем с его участием поисковом отряде в родном Ефремове.
Что-то среднее между следователем и аналитиком
Обычное представление о работе поисковиков – толпа людей ходит по городу, раздает листовки или прочесывает лес. На самом деле поиск – сложный процесс, когда нужно последовательно и быстро выполнить ряд задач. Руководит этим процессом информационный координатор, инфорг – что-то среднее между следователем и аналитиком.
Сначала инфорг собирает информацию о пропавшем: личные данные, интересы, любимые маршруты. Когда есть примерный портрет пропавшего, инфорг запускает поиск: пишет первую ориентировку с собранными данными. Если пропавшего человека не нашли сразу, прозванивает его знакомых, анализирует, куда тот мог направиться.
Грамотные действия инфорга нередко приводят к тому, что до выезда на поиск дело может вовсе не дойти.
– Однажды нам поступила заявка о поиске дедушки с деменцией, – вспоминает Михаил. – Дедушка жил на даче, судя по заявке, не мог сам пройти и двухсот метров и вдруг – пропал среди бела дня. Я стал выяснять у родственников, где дедушка жил раньше. К счастью, дом, где у него когда-то была квартира, оказался с консьержем, и родственникам удалось с ним связаться. Выяснилось, на даче неходячий дедушка благополучно дошел до выхода с территории дач, где его подобрали «добрые люди», которым он смог очень убедительно объяснить, что его надо отвезти «домой» – в квартиру, где он жил много лет назад.
Поиск завершился, когда группа волонтеров даже не успела доехать до дачи.
Как работать быстрее полиции, если не спешить

Когда человек пропал, поиски нужно организовать быстро – пока пропавший не успел замерзнуть, не потерял сознание, и ему успели бы помочь, даже если он получил травму. В какой-то момент нужна группа поисковиков – проверить значительную территорию или отработать несколько версий одновременно. Например, когда ребенок сбегает из дома, параллельно отрабатывают возможность несчастного случая. Полиция в провинциальном городе, где поиском занято один-два сотрудника, такими возможностями не обладает.
– Помню, я пошел «наводить контакты» к правоохранителям в Ефремове. Увидел, что гражданскими поисками по области занимается всего одна сотрудница, причем она работала так давно, что в свое время искала еще моего дядю, – вспоминает Михаил.
Сначала к «любителям» дама отнеслась скептически, но буквально через несколько дней свое мнение поменяла – в Ростовской области именно волонтеры нашли человека, которого она искала.
Житель Ефремова поехал в гости. До места его довезли друзья, а обратно он решил добраться на попутках; в регионах, где нечасто ходит общественный транспорт, так ездят до сих пор. Но в тот день машину поймать не удалось, человек прошел несколько километров пешком, ему стало плохо, и на дороге его подобрала скорая. Так человек оказался в больнице другого региона, без сознания, поэтому врачи родственникам не позвонили.
Зато позвонили люди, которые в это время искали по Ростовским больницам своего родственника и увидели листовку о пропавшем человеке.
По правилам «ЛизаАлерт», отряд не берется за поиски людей, в биографии которых есть криминальный след. Во-первых, это небезопасно, во-вторых, человек, совершивший преступление, не совсем «пропал» – он прячется. А значит, искать его надо по-другому.
Искать человека, зная, что он уже погиб, тяжелая история
Сейчас Михаил живет в Москве. Он также ходит в рейсы, что удачно сочетается с волонтерством. С утра запустил поиск, раздал поручения и уехал в рейс. Вернулся, собрал отчеты, проанализировал информацию, куда мог направиться пропавший. Успешному совмещению основной работы с поиском способствует то, что в «ЛизаАлерт» не любят, когда люди выходят на работу… слишком часто. Несмотря на то, что в «ЛизаАлерт» около 30 000 волонтеров, это не значит, что все они работают каждый день.
– За пять лет, что я в отряде, на поиски «в поле» я выезжал, может быть, раз десять, – вспоминает Михаил. – Работа сложная, ищем, бывает, и погибших. Если заниматься этим часто, можно надорваться. Искать человека, зная, что он уже погиб, тяжелая история. Кто-то из волонтеров после такого сообщения уходит, кто-то просится расклеивать листовки – то есть на такие задачи, где заведомо не увидит тела. Но ведь инфорг общается с родственниками пропавшего и всегда знает немного больше других – например, когда пропавший оставил предсмертную записку.
Если становится невмоготу – можно поговорить с более опытным коллегой, рассказать историю пропавшего, спросить совета. В отряде всегда есть координаторы, которые подписали документ о неразглашении личной информации. Они и поддержат, и подскажут, если что-то упущено. Большие многодневные поиски чаще всего ведут несколько координаторов, поочередно сменяя друг друга.
Но самое тяжелое, по словам Михаила, – неизвестность. Прошло несколько лет, но он до сих пор вспоминает нескольких людей, поиски которых он вел и найти которых так и не получилось.
– Порой возвращаюсь к ним мысленно, перебираю задачи, ищу, что мы там тогда упустили, не сделали. Но надо понимать, что мы не всесильны.
Как пропадают люди: основные сценарии

Когда пропадает ребенок, родители часто не решаются сразу вызвать милицию или спасателей.
Кто-то до сих пор уверен, что полиция берет заявление о пропаже людей только через трое суток, хотя на самом деле сегодня их берут сразу.
Кто-то не хочет беспокоить окружающих и рассуждает: «А вдруг мы всех сейчас поднимем, а он через полчаса придет? Неудобно беспокоить людей, давайте подождем еще час, два, до вечера».
Но здесь лучше потревожить специалистов, чем потерять время. Ведь в таких случаях всегда есть шанс на то, что все будет благополучно.
За 12 лет существования поискового отряда были выделены наиболее типические ситуации, которые полезно знать родственникам пропавших. О наиболее распространенных Михаил нам рассказал:
Маленький ребенок просто отстал
– Маленькие дети (до восьми лет) иногда просто отстают от родителей. Например, ехал по парку рядом с мамой на самокате и завернул не за тот угол. Как правило, такие дети не уходят далеко, потому что маленький плачущий ребенок без мамы в общественном месте сразу обращает на себя внимание.
В этом случае мы быстро собираем большую группу, печатаем листовки и проверяем ближайшие два-три квартала.
Вопреки распространенным страхам, крадут внезапно потерявшихся маленьких детей крайне редко. Для кражи ребенка нужна ситуация, когда похититель будет в нем заинтересован, например, это папин партнер по бизнесу, с которым у папы конфликт. К тому же похищение чаще всего готовят заранее.
Как только появляются сведения, что ребенка украли (например, свидетели или запись с видеокамер), отряд передает дело в Следственный комитет, и как будет идти поиск дальше, решают следователи и полиция.
В этом случае важно не только найти ребенка, но и не навредить ему, а еще не подставить рядовых волонтеров под контакт с похитителями (преступниками, которые могут быть еще и вооружены), так что помощь спасателей может быть недейственна. Но похищения детей, в отличие от пропаж, очень редки.
Ребенок от восьми до восемнадцати ушел из дома
Дети постарше и подростки часто не теряются, а сбегают из дома. Причиной может быть какая-то провинность ребенка – получил плохую оценку, разбил телефон, либо конфликт, который между ребенком и взрослыми уже некоторое время развивается.
Важно понимать, что конфликтом для ребенка могут стать действия, для родителей самые обычные: контроль, запреты, проверки дневников; или когда ребенка отругали за оценки, за то, что он недостаточно усердно готовится к экзаменам, а сейчас самая пора, и пр. В подростковом возрасте дети все это воспринимают преувеличенно остро.
Ребенок помладше в этом случае не уходит далеко и сидит где-то у себя же в подъезде или во дворе. На поиск таких детей волонтеры стараются выходить скрыто – без форменных жилетов, а листовки не расклеивают и даже не рассылают по интернету. Дети сейчас весьма умело пользуются гаджетами, а, если ребенок, который боится идти домой, увидит, что его ищут, он сбежит в соседний район, там опасностей больше и найти его будет сложнее.
Дети постарше в подобных случаях сидят у друзей или гуляют по торговым центрам.
Главная опасность для городских детей в деревне – люки и отверстия всех видов
Например, на участке стоял садовый туалет, потом он сгорел, но выгребная яма осталась. Аборигены такие места, как правило, помнят и обходят, а вот незнакомый с местностью ребенок легко может провалиться на гнилой доске.
По тому же принципу опасны старые погреба, колодцы и другие отверстия. При падении в них ребенок может получить травму.
Человек с деменцией – как опознать?
Человек с легкой деменцией может просто внезапно потерять ориентиры. Например, он ходит вокруг своего квартала и не может понять, в каком из типовых домов его квартира.
Вопреки распространенному мнению, у людей с деменцией не всегда бывает потерянный вид и растерянный взгляд – ведь внутри себя такой человек очень четко знает, куда и зачем он идет в мире, который существовал много лет назад.
Моменты растерянности бывают только, когда местность уж слишком сильно изменилась, – например, квартал снесли или, наоборот, застроили.
В то же время по некоторым признакам опознать человека с деменцией можно, даже если вы видите его в сумерках или мельком. Человек с выраженной деменцией, даже если он одет по сезону, всегда «неуместен», он странный, «не вовремя». Например, дедушка, который ждет автобус на остановке в три часа ночи, когда автобусы не ходят, с большой вероятностью дезориентирован.
При выраженных признаках болезни такой человек идет строго по прямой и останавливается у первой преграды или на границе освещенности. Дальше он просто стоит столбом – посреди улицы или лицом в стену – продумать какое-то следующее действие его мозг уже не может.
Однажды в небольшой деревне волонтеры нашли бабушку с деменцией, стоящей лицом в стенку в сарае соседа. До этого бабушка вышла из своего дома, прошла несколько десятков метров по прямой, увидела открытую дверь, зашла в сарай, дошла до противоположной стены и остановилась. Хозяин ее не заметил и запер. Если бы инфорг не знал особенности поведения людей с деменцией, дело могло бы окончиться трагически – ведь на помощь дезориентированный человек звать не будет.
Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАле́рт» — добровольческое некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском людей, пропавших без вести.
Отряд основан 15 октября 2010 года, после того, как в сентябре группа из примерно пятисот стихийно собравшихся добровольцев искала в окрестностях подмосковного Орехова-Зуева пропавших пятилетнюю Лизу Фомкину и ее тетю. Несвоевременная реакция полиции тогда привела к тому, что женщина и ребенок погибли.
Сегодня отделения «ЛизаАлерт» есть уже более чем в 53 регионах России. Отличительная особенность движения – вся деятельность отряда происходит на безвозмездной основе. При этом руководство поисками ведут профессионально обученные организаторы, которые работают в отряде давно, а непосредственно поиск ведут добровольцы-волонтеры. Получить задачу и инструкции и присоединиться к поискам может любой желающий.
За прошедшие годы движением разработаны подробные инструкции о том, как действовать при разных видах поисков. Волонтеры «ЛизаАлерт» успешно ищут людей в лесах и в городах, за годы существования движения были найдены более 50 тысяч пропавших.
Помимо поисков, «ЛизаАлерт» ведет большую работу по профилактике пропаж людей. В 2014 году по инициативе отряда в Москве была создана база данных неизвестных пациентов, поступивших в больницы города. Психологи движения читают цикл лекций «Говорит „ЛизаАлерт«» о профилактике побегов, похищений и потерь детей. Также участники движения проводят лекции и занятия для школьников.
Оставить заявку на поиск человека может любой желающий на сайте отряда, а также по телефону горячей линии 8-800-700-54-52.
Коллажи Дмитрия Петрова с использованием личных фотографий Михаила Наумкина