«Пушкин подошел и царю, и генеральному секретарю»
– Говорят, Пушкин для каждого свой. Какая у вас история отношений с ним?
– В школе, конечно, все, что положено, я прочитала, но любила больше Достоевского. Читать Пушкина меня научил Виктор Кривулин, замечательный ленинградский поэт, к которому я попала как к репетитору в 1981 году.
Когда он начал читать «Бесов», я как рот открыла, так и не закрыла, это совершенно магическое было действо, чистое волшебство. Я и стихи стала читать, по сути дела, только после знакомства с Виктором Борисовичем и научилась воспринимать их на слух ровно в тот мой первый год в Ленинграде, в основном слушая живых поэтов на квартирниках.
Дальше Тартуский университет, и там было бы сложно удержаться от любви к Пушкину при том, как его любил Лотман. У Юрия Михайловича был Божий дар изумления, который очень сильно действовал. Каждый раз, когда он читал Пушкина или лекцию по Пушкину, он заново поражался тому, как это написано и как это в принципе возможно было написать. Я до сих пор многие вещи слышу с его интонациями.
– Вам посчастливилось учиться у Юрия Лотмана, которого сейчас каждый школьник знает как автора комментариев к «Евгению Онегину». Расскажите немного о том, чему в связи с Пушкиным он учил вас, что самое главное вы успели перенять?
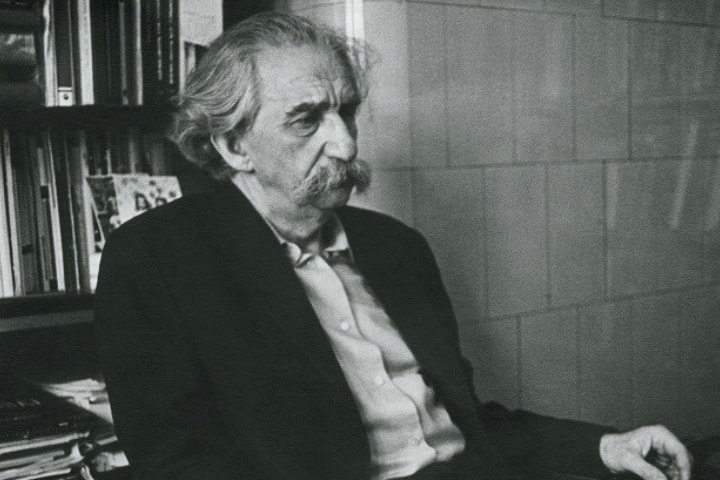
– Я не занималась Пушкиным, мои курсовые и диплом были по Баратынскому и Дельвигу, хотя Пушкин в наших разговорах все время присутствовал. Для Юрия Михайловича важнее всего в наших работах было то, что, видимо, можно назвать научной честностью: добросовестно собрать материал, дотошно изучить и описать выявленные закономерности.
Мне трудно сказать, что со мной было бы, если бы я не оказалась в Тарту. Это был бы совершенно другой человек – с другой специальностью, другими друзьями, другим мужем, в конце концов, потому что мы познакомились с ним на студенческой конференции.
Я до сих пор переживаю встречу с моими ленинградскими учителями и тартускими преподавателями и друзьями как счастье. Пушкин в этом счастье занимает довольно важное место, и я надеюсь, что мои ученики это хоть немножко, но чувствуют.
– Как вам кажется теперь – Пушкин до сих пор «наше все» или в XXI веке его позиции все-таки пошатнулись?
– Пушкин был нашим всем не всегда, а примерно полвека: между восьмидесятыми годами XIX века, когда началась подготовка к столетию со дня рождения Пушкина, и помпезным празднованием столетия смерти Пушкина в 1937 году. Время было такое: государству (и отчасти обществу) потребовались «вечные ценности» в виде «национальных святынь», и Пушкин для этого подошел и царю, и генеральному секретарю.
Сейчас спрос на эту формулировку, может, и сохраняется со стороны государственных и идеологических институций, опять же для мемов хорошо, но Пушкин давно уже не все, хотя и точно наше.
Сейчас у Пушкина шансов «выжить» гораздо больше
– Вы преподаете в школе. Скажите, а для современных детей Пушкин – все еще живой и актуальный автор или этакий бронзовый памятник? Если второе, то что можно сделать, чтобы его «оживить», чтобы современные читатели по-прежнему находили в его произведениях что-то свое?
– Если сравнивать с советской школой, то сейчас у Пушкина шансов выжить в качестве актуального автора гораздо больше. Хотя бы потому, что экзаменационное сочинение по литературе перестало быть обязательным для всех, а значит, учителю не нужно вдалбливать каждому ученику, что надо написать про «образ Евгения Онегина», чтобы проверяющие это сочинение зачли.
А те, кто сдает ЕГЭ по литературе (то есть, как правило, читающие дети), обычно хорошо различают Пушкина как отличного писателя и Пушкина в версии ЕГЭ, которого нужно сдать и забыть.
Если у нас нет задачи научить всех детей в классе писать «правильные» сочинения, значит, мы можем просто почитать и поговорить. А дальше – как повезет. Урок литературы – это такая рекламная акция: смотрите, что бывает, и как же это невероятно прекрасно. Главное – чтобы дети знали, что Пушкин есть, и что его читать – удовольствие. Тогда есть шанс, что они к нему вернутся, когда вырастут.
– Думается, тут можно попробовать провести некоторую аналогию с Шекспиром – он почему-то не утрачивает своей популярности, его читают, ставят, интерпретируют по-всякому, при этом ценят как родоначальника современного английского языка. У Пушкина спустя 200 лет – получилось ли похоже?
– Это так, пока у нас сохраняется представление о том, что в истории культуры есть ключевые авторы, вечные и неизменные ценности. Но, как кажется, это ненадолго. И речь не только о том, что в истории искусства пиетет перед образцовыми авторами всегда сменяется их ниспровержением. Но и о том, что сейчас вообще к любым устойчивым иерархиям заведомое недоверие.
В отличие от начала 1990-х, сейчас есть запрос не на пересмотр классического канона, а на отказ от того, чтобы что-то канонизировать в принципе. В ранние 1990-е существование классического школьного канона не подвергалось сомнению, но было важно расширить его и включить всех запрещенных в Советском Союзе авторов. И все с детьми прочитать! Школьные программы по литературе того времени были совершенно неподъемные по количеству обязательных книжек, немыслимые просто.
Сейчас – обратное движение: никаких обязательных списков. Современный читатель, особенно подросток, не готов ни к каким железобетонным иерархиям, и за каждого автора придется побиться.
Зато современный школьник (в отличие от его родителей, кстати) готов вместить множество разных точек зрения. Правда, реагировать он будет только на то, что имеет непосредственное отношение к нему: для современных подростков поиск самоидентификации важнее всего – кто я, зачем мне это, вот это все. И с такой точки зрения Шекспир и Пушкин становятся одними из, не более обязательными, чем любые другие авторы. И если Шекспир и Пушкин помогают нащупать этот путь к себе – да, их примут, прочитают, подумают, а героев примут, как родных.
Мы только что прочитали с восьмиклассниками «Медного всадника», вслух, потому что это звучит совершенно невероятно, и останавливаясь каждый раз, когда накапливались вопросы. Так вот в тот момент, когда один из гимназистов дочитал до:
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый… –
у него натурально голос прервался, и он непроизвольно так: «Ох, бедный…» – вот так Пушкин действует.
А в «Пиковой даме» и вовсе герои и коллизии живы для современных школьников больше, чем, например, для советских. Важно, чтобы на этом пути не потерялась литература сама по себе, как искусство, как самодостаточная ценность, безотносительно других ее достоинств.
Понятен ли Пушкин «без перевода», и зачем нужны комментарии
– С другой стороны, кажется, что современные дети уже не понимают Пушкина без «перевода», слишком многое надо расшифровывать, объяснять. Это тоже признак устаревания?
– Понятность/непонятность совсем не всегда объясняется поправкой на время написания: полно авторов, которых современники совершенно не понимали, в том числе и Пушкина. Но да, если между нами и книжкой есть историческая дистанция, с ней нужно что-то делать: либо пытаться вникнуть в это время и этот язык, либо выкинуть все, что непонятно, и сосредоточиться на понятном. И то, и другое в школьной практике работает, и даже одновременно.
Я, конечно, очень люблю исторический комментарий – и к словам, и к лингвистическим конструкциям, и к самой эпохе, в которую происходит действие и/или написан текст. Мне кажется, это отдельное удовольствие – понимать, что эта фраза или это действие героя могли значить для автора и его читателей, какой в них был смысл тогда – и что из этого смысла уцелело сейчас.
Или напротив: какой новый смысл появился оттого, что мы утратили понимание контекста. Непонятные слова тут совершенно не главная проблема.
Кстати, сложнее обычно со словами, про которые дети думают, что они их понимают: каждый учитель сталкивается с необходимостью объяснить, что «дворовые мальчишки» в «Капитанской дочке» – это не соседские барчуки, с которыми ты играешь в общем дворе, а кривая коровница Акулька не кривобокая, а одноглазая, и т.д.
Гораздо труднее понимать, что значит то или иное обстоятельство в жизни героя. Например, что значит для современного читателя, что Сильвио «во время возмущения Александра Ипсиланти предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами»? В лучшем случае мы понимаем, что он ввязался в какое-то повстанческое движение и героически погиб за свободу – что его, как романтического героя, конечно, прекрасно характеризует.
Но если мы знаем, что такое сражение под Скулянами, финал «Выстрела» оказывается совершенно про другое. Стычка под Скулянами, пожалуй, самая трагическая страница греческого восстания против турецкого владычества. К этому моменту надежда греков на помощь Российской империи рассыпалась в прах.
Один из предводителей, Ипсиланти, приказал арестовать, пытать и казнить другого предводителя – Владимиреску, а после этого сам попал в плен к австрийцам после разгромного поражения у Драгашани, в котором этеристы потеряли все, буквально все. Оставшиеся в живых несколько сотен повстанцев двинулись к переправе через Прут, и российская сторона буквально умоляла их спастись на территории России. Но этеристы, несмотря на отсутствие предводителей, оружия и какой бы то ни было надежды на что бы то ни было, в подавляющем своем большинстве отказались.
Четыреста человек приняли бой с четырьмя тысячами конных и двумя тысячами турецкой пехоты и предсказуемо погибли практически все. Высокая, героическая смерть в абсолютно не нужном ни для чего и ни для кого сражении, – это поразительная история.
Понятное дело, когда такой выбор делают люди, для которых невозможна жизнь ни в оккупации, ни в изгнании. Но для Сильвио греческое восстание не было делом всей жизни, а Россия не была изгнанием.
Его выбор остаться и погибнуть – это не про смерть в отсутствие выбора. Это скорее про то, что он понял, стоя в кабинете графа и целясь в него после долгих лет ожидания и подготовки к этой якобы дуэли. Про то, что ничего это ожидание не решило: граф жил и будет жить, а Сильвио – не жил и дальше тоже не сможет.
Сильвио не может не понимать, что сражение, в котором он погибнет, вполне героическое, но никакой свободы никому не добудет – и в этом горчайшая ирония его выбора. При этом мы понимаем, что известие о гибели Сильвио при Скулянах принадлежит молве: «Сказывают…» То есть тот образ Сильвио, о котором мы только что рассуждали, может и не существовать в «реальности», созданной пушкинской повестью, но быть плодом общественного мнения, следствием его репутации – и это еще одна итерация наших размышлений о Сильвио и о том, что Пушкин думает о романтических героях. И т.д. и т.п., остановиться думать невозможно.
Так вот: если мы не знаем этого ничего, мы и Сильвио не до конца понимаем, верно? С другой стороны, мы всегда будем чего-то не понимать, и, сколько бы мы ни погружались вглубь, нам смысла все равно не исчерпать.
Поэтому чтение для меня – это процесс, а не результат, и гимназистам я пытаюсь настроить именно этот процесс.
– Тогда до какой степени надо толковать автора при изучении его произведений? Есть комментарии Лотмана к «Евгению Онегину», которые сейчас – основа основ. А как он сам определял: вот это нуждается в пояснении, а вот это – ясно?
– Само утверждение «сделать текст понятным» довольно субъективно. Кому понятным? Что такое эта понятность? Где кончается комментарий и начинается интерпретация? Это проблемы любого комментатора.
Сейчас комментарий Юрия Михайловича Лотмана к «Евгению Онегину» воспринимается прежде всего как учебный и для школьного преподавания незаменимый: учителя и школьники именно оттуда узнают, как выглядел обед, бал, балет, дуэль, деревенские именины и т.д. в пушкинскую эпоху, и это прекрасно.
Но этот комментарий совершенно несводим к реконструкции пушкинского быта. Юрий Михайлович предложил концепцию становления самого текста «Евгения Онегина», изменения авторской точки зрения, языковой работы, рецепции современников и т.д. Это фундаментальное научное высказывание, результат десятилетий научной работы. Поэтому если что-то попало в комментарий – значит, с точки зрения Лотмана, это важно для понимания текста. Но для другого исследователя важным будет другое.
11 лет школьного чтения Пушкина – поразительный эксперимент
– Пушкин в школе – он для чего? Чему надо в идеале успеть научить детей за 11 лет, и чему – требуют научить различные министерства и ведомства?
– 11 лет чтения Пушкина – это, конечно, поразительный эксперимент, не знаю, есть ли еще где-нибудь что-то похожее. Это какая-то невероятная возможность научиться получать от чтения Пушкина удовольствие – и, как правило, упущенная.
В принципе, тут даже не в министерствах дело: повторюсь, сочинение перестало быть обязательным, а ЕГЭ по литературе, конечно, к литературе имеет мало отношения, но все-таки подготовка к нему отнимает несколько десятков часов в последний год обучения, а не всю жизнь. Остальные же часы, потраченные на Пушкина, учитель может использовать, как ему угодно.
И вот тут, когда нет обязательных требований, выясняется, что у нас ответов на вопрос, зачем 11 лет читать Пушкина, нет. Зачем учить наизусть «Роняет лес багряный свой убор…» и «Мой дядя самых честных правил…». Зачем обсуждать, гад Швабрин или это вполне допустимая стратегия выживания.
Зачем продираться сквозь непонятные слова, непривычные конструкции, когда полно гораздо более понятных книжек и фильмов, способных вызвать жгучий интерес у подростков.
Каждый учитель что-то свое должен выдумать на это «зачем». Мне проще: я очень люблю Пушкина, читаю его бесконечно и рада, что у меня есть возможность разделить с кем-то восхищением тем, как же это прекрасно. Вот как можно было выдумать фразу: «Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями»? Это невероятно смешно, очень тонко психологически, с мастерски спрятанными швами между авторской речью и узнаваемыми интонациями Василисы Егоровны (особенно мило это «еще», мол, не дома корова, как же не побеспокоиться за нее?).
И при этом мы почему-то понимаем, что никакого противоречия между тем, что героиня «сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова», и тем, что она рассказала всю эту историю попадье, которая раззвонила секрет по всей крепости, в глазах Василисы Егоровны (да и автора) – нет. Вот как он это делает?
– А как тогда не возненавидеть Пушкина, если его так много в школе? Как вернуться к нему в зрелом возрасте с интересом?
– Как не возненавидеть закон Ома и дифференциальные уравнения? А также физкультуру и одну или две буквы «н» в причастиях и прилагательных, всю школу – да и все детство целиком? Ну и Пушкина, да. Я не знаю, честно.
Если бы мы занимались индивидуально с каждым ребенком сообразно склонностям самого ребенка, наверное, было бы попроще. Но у меня почти тридцать человек в классе, а у коллег из других школ бывает и поболе. И даже не это главное: современная российская школа в том виде, в каком она существует, не понимает, чего от нее хотят.
Государство хочет от школы стандартов, уравниловки и жесткого контроля для недопущения разномыслия. Общество, то бишь родители, напротив, хотят от школы индивидуального подхода к каждому ребенку и безусловного психологического комфорта. И то, и другое – взаимоисключающие утопии, особенно в тех условиях, какие у школы сейчас есть.
Учителя, как водится, крайние и всем должны: министерству – максимальное однообразие и стандарт, родителям – максимальное разнообразие и индивидуальный подход. Но так не бывает.
И к Пушкину тоже относится: не может учитель сделать так, чтобы Пушкина одинаково полюбили все-все его ученики. Не тот человек Пушкин, чтобы всем нравиться. Ну и вариантов, почему кто-то вдруг по собственному желанию начнет читать Пушкина, столько же, сколько людей. Полно ситуаций, когда в школе ненавидел, а потом, к примеру, кино посмотрел, книжку открыл и порадовался. И наоборот.
– Можно ли успеть в школе изучить все грани Пушкина? Ведь он не только поэт и прозаик, еще и историк, а этой темы обычно касаются вскользь…
– Все прочитать и откомментировать – в школе точно не нужно, у нас же нет задачи понавоспитывать литературоведов. Если задача – научить любить чтение как процесс и результат, то сколько прочитается, столько и хорошо.