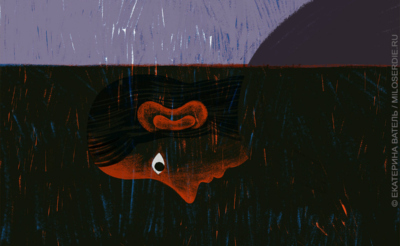Каждый год 26 октября родственники погибших при захвате заложников в Театральном Центре на Дубровке и выжившие бывшие заложники собираются на площади перед Центром. В прошлом году впервые памятные мероприятия не проводились из-за пандемии коронавируса, но все было организовано так, чтобы желающие могли возложить цветы к мемориальной доске в любое время, соблюдая санитарные правила и социальную дистанцию.
Об этом рассказывает Дмитрий Миловидов, руководитель Региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост». По традиции, был вывешен транспарант с фотографиями погибших, прошла минута молчания и церковная поминальная служба в храме на Дубровке.
– В этом году, вероятно, будут официальные мероприятия, панихида, однако нужно быть готовым к тому, что в последнюю минуту мероприятие могут отменить из-за коронавируса, – говорит Дмитрий.
Всего в заложниках у террористов находились 916 человек, из которых 121 – ребенок. По официальным данным, в результате погибли 130 человек, по предположению общественной организации «Норд-Ост» – 174. Десять не вернувшихся из зрительного зала Театрального центра – дети, в их числе оказалась и 14-летняя Нина Миловидова, дочь Дмитрия.

Позднее российские власти заявили, что причиной смерти заложников стали осложнения хронических заболеваний и трехдневное пребывание без пищи и воды. Однако в 2011 году Европейский суд по правам человека присудил 64 жертвам теракта компенсацию в размере от € 8 800 до € 66 000 каждому, усмотрев в планировании спасательной операции и в отсутствии действенного ее расследования российскими властями нарушения статьи о праве на жизнь.
Соотечественники, живущие в США, компенсацию по решению ЕСПЧ в итоге получили, но с большой задержкой по времени. В России же всю сумму компенсации получили лишь те заявители жалобы в Европейский суд по правам человека, кто сумел дожить до решения суда.
В остальной части решение ЕСПЧ в России до сих пор не исполнено. В первую очередь, это касается расследования причин гибели людей, погибших не от пуль. Кроме того, власти так и не провели расследование действий оперативного штаба.
– Решения ЕСПЧ находятся на контроле комитета министров Совета Европы, однако в России на них реагируют очень вяло. И все же мы сумели добиться многого. Мы дали понять властям, что с нами придется разговаривать, мы заставили уважать наше право на жизнь.
Спасательная операция не была спланирована должным образом, и не было эффективного расследования хода этой операции. Однако мы сумели дойти до ЕСПЧ, который принял серьезное решение, рекомендовал провести надлежащее расследование по факту гибели людей.
До сих пор статус жертв терроризма не узаконен, и за это региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» еще предстоит бороться. Это совместная работа с другими организациями, такими, как «Матери Беслана», Национальной ассоциацией оказания помощи пострадавшим от террористических актов и чрезвычайных ситуаций «Надо жить», «Волга-Дон», «Рейс 9268» («Синайский рейс») и другими. Эта работа уже давно идет, еще с 2005 года, и, к сожалению, участники добавляются, – говорит Дмитрий Миловидов.
По его словам, именно у пострадавших на Дубровке впервые получилось добиться какого-то результата в ЕСПЧ, и этот опыт впоследствии помог другим, пострадавшим от действий террористов.
– Люди, которые пострадали еще в 1999 году при взрыве в Волгодонске, пытались обратиться в ЕСПЧ, однако добиться там какого-то результата получилось только у пострадавших на Дубровке. После нас в Европейский суд по правам человека пошли бесланцы. С использованием нашего опыта им было уже легче разобраться в процедуре Суда.
«Штурм был правильным решением»

Оказавшийся в числе заложников Александр Сталь сегодня почти не вспоминает те события, да и никак не отмечает их 26 октября.
– Обычно мне кто-нибудь из родных или друзей напоминает, пишет: мол, в новостях сказали, что сегодня годовщина, поздравляем. Или сам новость увижу, проходит мысль что да, сегодня годовщина, и вот, например, погода хорошая, а тогда уже снежок был.
Может что-то повспоминаю несколько минут. Но как-то особо отмечать, выделять – нет, да и не понятно, как и зачем, – рассказывает Александр. И вспоминает историю про бутылку с коньяком, которая потом была сфотографирована рядом с убитым Бараевым. Эту бутылку до начала спектакля принесла в зал одна из будущих заложниц, а потом ее отняли боевики и протирали содержимым царапины.
– Это уже такие «отошедшие» воспоминания, будто и не со мной бывшие. До сих пор помню, как нас выводили выносить мебель на лестницу, как боялись штурма. Все время хотелось пить, потому что было душно. Постоянно не хватало воды, – вспоминает он.
После применения газа с неизвестным составом многие из тех, кто выжил, до сих пор жалуются на потерю памяти, зрения, постоянно повышенную температуру тела, нарушения биохимии крови, анемию.
– Слух до конца не восстановился и это немного мешает, но в целом привык, – говорит о себе Александр Сталь. – Осталась инвалидность по слуху и пенсия по инвалидности, плюс бесплатный проезд. Да больше мне, наверно, и не надо ничего, голова на плечах есть, работаю программистом, так что в госпомощи не нуждаюсь. Никаких флэшбэков, кошмаров и прочего вроде бы нет.
Конечно, бывали мысли: если бы я в тот день на «Норд-Ост» не пошел, скорее всего, слух бы не потерял и сейчас, конечно, было бы легче коммуницировать с людьми. Я не могу слушать выступающего в большой аудитории, смотреть фильмы без наушников, общаться в шумном помещении.
Я по-прежнему считаю, что штурм был правильным решением (хотя те, кто потерял там родных, со мной могут не согласиться), потому что это было наименьшее зло. В случае переговоров с террористами и «вывода войск» мы бы получили на Кавказе непрекращающуюся войну, теракты шли бы один за другим. Сейчас мы уже и подзабыли, что в те годы каждый год в метро был один-два теракта… – говорит Сталь.
«Память и сейчас ко мне возвращается частями»
Алена Михайлова – журналист из Калининграда. В заложники к террористам она попала вместе с мужем Максимом. Супруг погиб во время штурма театрального центра на Дубровке, а Алене удалось выжить, но буквально ценой потери своего здоровья.
Сильные головные боли, головокружения, провалы памяти, тошнота, рвота, периодическое онемение правой руки, проблемы с почками и сосудами, посттравматическое стрессовое расстройство – это далеко не полный список болезней, которые появились после применения газа и сопровождают женщину последние 19 лет.
– После теракта на Дубровке я была в Москве всего один раз для решения юридических проблем, но я не готова ехать туда снова, даже как турист. Через три года после трагедии мне было очень важно снова попасть в зал и на этот раз выйти оттуда своими ногами.
Казалось, что это поможет мне вспомнить все, что происходило в октябре 2002, и дальше моя жизнь пойдет по-другому. Действительно, когда я очутилась внутри зрительного зала, подошла опять к оркестровой яме, то многие внутренние вопросы и правда были решены, и я вспомнила многие моменты захвата, которые до этого забыла.
Память и сейчас ко мне возвращается частями. Однажды мы со старшим сыном смотрели передачу про дельфинов. У меня как будто что-то щелкнуло в голове, и я вспомнила, что тогда вечером 23 октября купила в кассе помимо билетов на «Норд-Ост» еще билеты на детский спектакль, в дельфинарий, и куда-то еще. И я сыну говорю: «Вот у нас и билеты в дельфинарий пропали! Ты же не сходил?»
– Как вы говорили сыновьям о теракте на Дубровке?
– Старшему сыну тогда было 9 лет, его мы не взяли на мюзикл, оставили в гостиничном номере. Когда вначале захвата боевики дали всем нам возможность позвонить, я связалась с родственниками из Подмосковья, которые забрали мальчика и вместе смотрели по телевизору репортажи с места событий. Поэтому все, что тогда происходило, он знает.
Младший, годовалый тогда остался с бабушками дома, в Калининграде. Отца он совсем не помнит, только по рассказам близких. Они полные тезки, оба Максимы Михайловы. Можно сказать, на сыне лежит определенный груз ответственности, ведь старшего любят и помнят многие люди. Мне было важно, чтобы отец не стал для него просто иконой, что их будут сравнивать, чтобы его это психологически не сломало, и он не думал, что он менее талантливый или менее замечательный, ведь у него свой характер, своя судьба.
Я собрала огромный архив, связанный с событиями на Дубровке. Сначала я это делала потому, что мои личные воспоминания не совпадали с тем, что говорили по телевизору. Мне важно было понять, что же произошло, саму хронологию событий.
Потом я пришла к мысли, что вся эта информация нужна еще и для того, чтобы сын, которому на тот момент был всего год, когда вырастет, сам все это прочитал и сделал какие-то выводы для себя.
От этой информации его никто не оберегал. Получилось так, что с года он ходит на кладбище, его окружают люди, знавшие папу. И это не только родные и близкие друзья, потому что все, что тогда происходило, было таким шоком для всех калининградцев.
До сих пор мне совершенно посторонние люди говорят: «Мы вас так ждали, так ждали!»
Время идет, и сейчас многие уже и не знают про теракт на Дубровке. Я в сентябре лежала в стационаре – опять проблемы с почками, и врач, прочитав про постгипоскическую энцефалопатию, что-то сказал о тех событиях, а молоденькие медсестры спрашивают: «А что это? Мы ничего не знаем».
Об этом нельзя забывать никак! Пусть хотя бы раз в год, но нужно напоминать и говорить о событиях октября 2002.
Речь даже не о восстановлении нашего здоровья или каких-то выплатах. Мы говорим о безопасности граждан и о помощи государства тем людям, которые, не дай Бог, тоже попали в беду, пострадавшие должны быть уверены, что им во всем помогут: с квартирами, местами в детских садах, лечением, санаториями, психологической поддержкой и другими мерами. И главное, что это не надо будет выпрашивать!
Конечно, местные власти поддерживают пострадавших от терактов, но, согласитесь, что в столице качественно иной бюджет, чем в регионах. На местах же таких денег нет. Чисто по-человечески люди готовы помочь, но возможности-то совершенно иные, и это, мне, кажется, несправедливо.
– Здоровье у вас так и не восстановилось?
– Оно уже никогда не восстановится, я, как минимум старше на 19 лет от октября 2002 года, и после последних обследований я прекрасно понимаю, что старческая деменция ко мне придет раньше, чем к другим людям моего возраста, потому что есть определенные изменения в сосудах головного мозга.
Я просто научилась жить и работать с теми особенностями здоровья, которые у меня есть, и не сидеть на шее у государства. Несмотря на проблемы с короткой памятью, я работаю. Это такая моя странность, и она меня частенько подводит, но я обычно предупреждаю окружающих о ней, и все нормально на это реагируют.
Я просто чаще уточняю какие-то моменты, чтобы «в голове улеглось», и все постоянно записываю, фотографирую в путешествиях номер комнаты в гостинице, ее название, ценники в магазинах, документы – то, что обычный человек и так помнит.
«Свою роль сыграла «эйфория выжившего»

– Сейчас, спустя 19 лет, те события вы оцениваете по-иному, чем когда находились в их эпицентре?
– Сейчас более критично. В тот момент, вероятно, свою роль сыграла «эйфория выжившего»: я была счастлива, что я жива, что я могу взять на руки своего малыша, отметить день рождения старшего сына.
Я испытываю дикое чувство благодарности судьбе, что в нашей семье из двоих родителей выжил хотя бы один, и я могу видеть, как растут мои сыновья!
С годами, когда постепенно был собран архив о тех событиях, начала восстанавливаться моя память, когда благодаря общественной организации «Норд-Ост» мы начали читать документы и расследования о теракте, я понимаю, что единственный ответ на вопрос «Все ли сделали власти для людей?» может быть «Нет, не все».
Они должны были, как минимум, извиниться перед бывшими заложниками, поддержать и не оставлять один на один с их проблемами. А получается, что вся эта история с террористами и газом по-прежнему под грифом «Секретно». Поэтому с каждым годом вопросов гораздо больше, чем было тогда, в 2002-ом.
Бесспорно, это была необычная ситуация для всех: государства, президента, спецслужб, медицины, такое случилось в стране в первый раз.
Если Дубровку я для себя, можно сказать, приняла, то Беслан я уже понять не смогла. После трагедии 1 сентября я восстанавливалась психологически больше, мне впервые пришлось обратиться к помощи психиатра, потому что я просто перестала спать. В моей голове не укладывалось, как так могло получиться, что всего два года спустя после Дубровки снова погибли люди, дети!? Получается, наши 130 жертв были напрасны?
Только мы, бывшие заложники, научились с этим жить, а какие выводы сделали все остальные? Те, кто занимается обеспечением безопасности в школах, театрах, транспорте, в паспортном столе, когда прописывают людей в квартиры? Мы сами, и не только государство, по-прежнему очень беспечны, считаем, что с нами такое не случится и отвечать за это должен кто-то другой.
Безопасность зависит от каждого: от женщин-билетеров, пассажиров в вагонах метро, которые видят, что кто-то странно себя ведет, тех, кто неофициально сдает жилье. Каждый на своем месте должен быть профессионалом, инструкции есть, только мало, кто их выполняет.
После событий на Дубровке я всегда, посещая театры, кино, смотрю по сторонам. Сколько аварийных выходов открыто даже не на случай теракта – пожара? Сможем ли мы выскочить из зала, если, не дай Бог, что-то опять случится?
И мы говорим уже даже не о терроризме, а о бытовых ситуациях. События последних лет в торговых центрах – тому подтверждение. Мы все преступно беспечны к своей же безопасности.
Террористы – это не просто какая-то история в кино или выпуске новостей. Это наша действительность. Изменить ситуацию в корне без профессиональных политиков, военных и других «ученых мужей» возможно нельзя, потому что это проблема, с которой борются многие государства. Но хотя бы чуть-чуть нивелировать – в наших силах. И конечно, если люди попали в эту историю, им априори нужно помогать.
– В тех событиях вы действовали как журналист или как обычный человек, оказавшийся в непонятной ситуации?
– Меньше всего я тогда думала, что я журналист. В зале тогда была женщина, она сидела где-то недалеко от нас и она меня раздражала тем, что все время говорила, что у нее связи, сейчас она свяжется с телеканалом, и все решат… Но это было ее поведение. У меня же в этот момент мысли были о ребенке, который один сидел в гостиничном номере в чужом городе. И я думала о том, как сообщить родственникам, чтобы они нас (никто же не знал, что мы пошли на мюзикл) и его не потеряли, как переживут наши с Максимом смерти родители.
Главная моя задача была – выжить, чтобы не государство воспитывало моих детей, и не бабушки с дедушками. Выжить любой ценой.
«Была огромная жажда жизни»
– Что больше всего вам запомнилось из тех трех дней, которые вы провели в зале?
– В какой-то момент террористы приняли решение, что отпустят группу детей. И вышли дети, которых потом посадили на место. Про них сказали, что они слишком взрослые. Я видела эту историю, когда вышли две сестры, но старшую вернули в зрительный зал, она осталась совсем одна. А младшая ушла. Позже, когда мы стали общаться с Дмитрием Миловидовым, выяснилось, что та, которая осталась, была его дочь Нина.
Я до сих пор не уверена, смогла ли бы я выйти из этого всего, если бы со мной был сын. Я безмерно благодарна тем матерям и педагогам, которые высидели с детьми.
Как они их успокаивали, я не знаю. Как можно уговорить ребенка сидеть на одном месте более 50 часов? Просто сидеть, когда хочется ходить, спать, в туалет, просто страшно, а ты должен находиться на одном месте? Любая наша активность могла вызвать обратную реакцию террористов. Но родители смогли сдержать своих детей и себя, они не сорвались.
– Был страх смерти?
– Нет, был другой страх: что я оставлю двух детей сиротами, оставлю своих родителей. Умирать, оказывается, не страшно.
Я больше боялась, что нас начнут забирать по одному и расстреливать, чтобы показать властям, что они не шутят. Был момент, когда я выходила за одеждой в гардероб. И потом, позже, я поняла, что это был большой ошибкой с моей стороны – выйти из зала, где мы сидели как один живой организм, одной, с вооруженными боевиками. Стоила ли того эта одежда? Меня бы в лучшем случае вытолкали и показательно расстреляли.
Страха смерти не было, была огромная жажда жизни, и она есть до сих пор, какая-то сумасшедше-бешеная.
– Боевики с вами разговаривали?
– Это я с ними пыталась общаться, чтобы не сойти там с ума. Мы ничего не могли изменить, но диалог с ними и соседями-заложниками, артистами был попыткой хоть как-то существовать в тех условиях.
Я пыталась понять логику террористов, обращалась к Бараеву с просьбой решить вопросы с туалетом, с водой, лекарствами. И это не была попытка договориться, просто мне казалось, что многие происходящие вещи и поступки не логичны.
Они говорили, что российские власти должны вывести войска из Чечни. Я им отвечала: «Вы же люди взрослые, вы понимаете, что даже если такое решение будет принято, то потребуется время, чтобы отдать команду, собрать технику. Это не делается одномоментно. Мы же не сможем здесь сидеть месяц или два?»
Женщины-смертницы тоже были разные: одни говорили с нами, другие сидели замкнуто, кто-то признавался, что они пришли умирать. А кто-то, по нашим ощущениям, боялся умирать, они были тоже напуганы. И мы, заложники, это чувствовали. Когда 48 часов проводишь с человеком, это все считываешь.
Мы сидели в зале, было такое ощущение, что террористы и сами не знают, что делать дальше: вот они пришли, объявили, что это теракт. А дальше – ничего. Мы сидим, и они сидят, и ничего не происходит. Бараев все время с кем-то говорил по телефону.
Я сидела в третьем ряду, и видела, как они переговариваются между собой. Я не понимала их язык, но эмоции людей хорошо было видно: они были чем-то недовольны, у них что-то не получалось.
– Вы чувствовали запах газа?
– Нет, я об этом моменте ничего не помню. Последние воспоминания, которые у меня были – мужчина, бегущий по спинкам кресел. В зал вошли какие-то боевики, которых я раньше не видела, возможно, они ранее были в других комнатах и коридорах в ДК, но не в зале.
Как я оказалась в больнице, вообще не помню. Сколько я ни старалась на кадрах хроники разглядеть, как выносят меня и мужа, нигде не нашла. Первое ощущение в палате – я четко понимала, что это больница, но когда выглядывала в окно, не могла понять, что это за место.
На тот момент я даже не понимала, что я в Москве, картинку за окном сравнивала с видами из окон больниц Калининграда, где я лежала в разные годы, и я видела совершенно незнакомый пейзаж.
– «Норд-Ост» вам снится?
– Я живу в реальности «Норд-Оста» до сих пор и ничего не могу с этим сделать. Я постоянно ищу новую информацию. Мне важно отслеживать судьбы людей, про которых я когда-то читала.
Была история, как одна женщина потеряла в теракте сына и бросилась с моста. И когда я приехала единственный раз после Дубровки в Москву, я купила местную прессу, где прочитала, что после этого она родила двух детей. Это был такой праздник для меня, как будто я лично эту женщину знала!
Она смогла найти в себе силы после такого перенесенного ужаса построить свою жизнь и продолжать жить дальше. Вот эти человеческие истории я все время ищу. Потому что если мы сейчас сломимся и уйдем только в суды, в негатив, получается, что террористы все-таки победили?
Если мы выжили даже такой ценой, то мы должны жить дальше. Я живу за себя и за Максима. Он был замечательный человек, очень талантливый, у него было столько планов! Он любил всякие технические новинки. Иногда я думаю: мог ли ты знать, что в 2021 году будут летать квадрокоптеры, мобильный телефон заменит компьютеры и фотоаппараты, видеокамеры, телевизоры уйдут в прошлое, а его любимое детище – радио, будет покорять интернет?
Смотрю сегодняшние фильмы с мыслью: «Жалко, что ты не их не видишь». Он был сильный творческий, яркий, опережающий в своей профессии время, он мог еще так много сделать! Ужасно обидно, что вот так с ним распорядилась судьба.
Коллажи Дмитрия Петрова