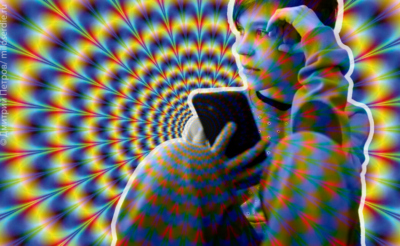Специалисты не слышат родителей, родители не слышат специалистов, дети не слышат родителей, родители не слышат детей, семьи с особыми детьми не слышат родителей с обычными детьми. Рассказывает психолог и арт-психотерапевт Александр Колесин.
Эдуард Гороховский? «Зеркало N2″ Фото с сайта cultobzor.ru
Объективация – это восприятие другого человека как инструмента (объекта). Современная философия потребления пронизывает практически все сферы человеческих отношений, хотя корнями она уходит в далекую древность, в примитивное язычество. Когда мы привыкаем использовать друг друга в качестве вещей, нам уже не до разговоров. И разговаривать мы разучиваемся. Что неизбежно приводит нас к душевным и духовным болезням. И учиться разговаривать, учиться находить общий язык, учиться видеть рядом с собой таких же, как мы, людей нам приходится заново. Именно об этом рассказывает санкт-петербургский психолог и арт-психотерапевт Александр Колесин, более 20 лет работающий с детьми-инвалидами и их семьями.
– Как вы в своей профессиональной деятельности пришли к размышлениям о кризисе культуры диалога?
– Когда 21 год назад я начал работать с особыми людьми, то поначалу я был обескуражен и удивлен всеобщей раздробленностью этого сообщества. Мне казалось, что все микрогруппы этого особого мира глухи друг к другу. Специалисты не слышат родителей, родители не слышат специалистов, дети не слышат родителей, родители не слышат детей, семьи с особыми детьми не слышат родителей с обычными детьми.
Все сообщество особых людей вместе с их ближним кругом напоминало мне картину молекулярного броуновского движения – хаотичного и непредсказуемого. В поведении людей я практически не обнаруживал признаков диалога и видел только огромное, все возрастающее количество монологов. Чтобы как-то объяснить для себя этот феномен, мне пришлось обратиться к теории общения как части общефилософской проблематики культуры.
В свое время я заканчивал аспирантуру философского факультета ЛГУ у одного из ведущих разработчиков философской концепции теории общения Моисея Самойловича Кагана. Если кратко изложить суть концепции, обобщенной автором в книге «Мир общения», то теорию общения можно описать как проблему межсубъектных отношений. Каган выявил различие двух форм взаимодействия между людьми – общением и коммуникацией: «…общение имеет и практический, материальный, и духовный, информационный, и практически-духовный характер, тогда как коммуникация (если не иметь в виду другого значения этого термина, когда он употребляется во множественном числе и обозначает пути сообщения, средства связи) является чисто информационным процессом – передачей тех или иных сообщений».
Различен и характер связи вступающих во взаимодействие людей в процессе коммуникации и общения: «Коммуникация есть информационная связь субъекта с тем или иным объектом – человеком, животным, машиной. Она выражается в том, что субъект передает некую информацию (знания, идеи, деловые сообщения, фактические сведения, указания, приказания и т.п.), которую получатель должен всего-навсего принять, понять (правильно декодировать), хорошо усвоить и в соответствии с этим поступать». Общение же предполагает межсубъктное взаимодействие, «в общении нет отправителя и получателя сообщений – есть собеседники, соучастники общего дела».
Принципиально различны и способы «адекватной самореализации» коммуникации и общения. Структура коммуникации монологична, тогда как структура общения – диалогична; передаваемое объекту сообщение необходимо запомнить, а направленное собеседнику послание предполагает его интерпретацию. В диалоге каждый партнер уникален и принципиально равен другому (другим). Вместе с тем, философ подчеркивает, что нет никаких оснований «для трактовки одной из двух форм информационной активности субъекта как более «высокой», более «совершенной», более ценной, чем другая». Они «равно необходимы человеку, общественному развитию, культуре… преимущества и ограниченность каждой обнаруживаются в разных социокультурных ситуациях».
– На какое следствие этого монологизма, прежде всего, вы обратили внимание?
– Это проблема выгорания специалистов помогающих профессий. Я вижу, как многие помогающие специалисты: педагоги, социальные работники, психологи, медики – быстро стареют, эмоционально угасают, начинают постоянно болеть… Мне пришлось испытать на себе все последствия многолетней педагогической практики. Задаваясь вопросами о причинах парадоксального воздействия на людей гуманитарных профессий, мне вспомнилось, что говорил Владимир Петрович Тыщенко, преподаватель философии в Новосибирском педагогическом институте: «системный кризис проявляется в том, что у нас господствует бездетная педагогика, безличностная психология и бесчеловечная медицина».
Иными словами, системные нарушения в помогающем труде вызваны отсутствием четкого понимания принципиального различия коммуникации и общения. В монологической парадигме субъектами коммуникации выступают только помогающие специалисты. Субъект – это активный, ведущий, доминирующий, отдающий, управляющий участник процесса взаимодействия. А объект – пассивный, ведомый, получающий, подчиненный, получающий, контролируемый участник этого процесса. Нормы русского языка фиксируют подчинительную связь этих слов, одни из которых – главные (подчиняющие), а другие – зависимые (подчиненные), а также их четкое функциональное различие. В субъектно-объектной парадигме главных персон (субъектов) традиционно обозначают именами существительными (педагоги, социальные работники, психологи, медики), а зависимых персон (объектов) обозначают подчиненными словами (учащиеся, обучаемые, дефектные, коррегируемые, подопечные, проживающие, консультируемые, дефицитарные, больные и тому подобное).
В подобной системе координат в формулировках нет человека, а есть только объекты коммуникации. В психологии такой процесс называется объективацией. Объективация клиентов приводит их к пассивному получению социальных, медицинских или образовательных услуг. Ни о каком равенстве во взаимоотношениях специалиста и клиента не может быть даже речи.
Если довести объективацию до логического завершения, то, например, идеальный клиент медицины монолога – хронический больной. Такой клиент обязан непрерывно болеть, а деньги на лечение, лекарства и парамедицинские услуги должны непрерывным потоком идти в медицинскую систему – либо от него самого и его ближнего круга, либо от страховой системы.
Идеальный клиент психологии монолога – зависимый невротик, не способный разрешить свои личностные проблемы без помощи своего психотерапевта. Монологической социальной системе нужен клиент, который не жалуется на помогающих специалистов, не пишет мелочных заявлений в собес и в правительство, не «зудит» по каждому поводу и без повода.
В знаковом романе Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» главного героя превращают с помощью лоботомии в идеальный объект социальной заботы – слепоглухонемого паралитика, которого нужно только мыть, одевать и кормить. Идеальный клиент педагогики монолога – «вечный студент», который непрерывно пытается «выучить материал», «запомнить урок», «накопить знания», но, при этом, сам никогда не станет учителем, мастером.
В психологии давно установлена объективная взаимосвязь процесса объективации клиента с деперсонализацией (личностной деформацией) помогающего специалиста. Американский психолог немецкого происхождения Генрих Фрюденбергер сорок лет назад заговорил о такой проблеме, как неограниченная власть специалиста над клиентом.
Чем больше специалисты помогающих профессий объективируют своих клиентов, тем больше разрушаются они сами, объективация не проходит бесследно для участников этого процесса. Таков психологический парадокс: клиент в процессе коммуникации превращается в объект профессиональных манипуляций, а к специалисту все это возвращается бумерангом – происходит разрушение его личности, нарастает «носорожья шкура» цинизма. Деперсонализация специалистов помогающих профессий – один из основных факторов профессионального выгорания.
Всем известны словесные маркеры раздражения в адрес клиентов: «Вас много, а я один», «ходят и ходят, топчут и топчут» и так далее, вплоть до фразы «чтоб вы все сдохли». Сюда же можно отнести черный юмор, равнодушие, агрессию, различные виды насилия. Во время занятий со специалистами мы находим десятки примеров деперсонализации. Например, сотрудник медицинского учреждения при кормлении ребенка набирает много еды на ложку или быстро кормит беспомощного старика, таким образом, насилуя волю пациента.
Деперсонализация запускает разрушительные процессы в личностной и телесной структуре помогающего специалиста: «Я-сознание» объективирует «Я-бессознательное» и собственное тело, приводя к плачевным результатам.
Подобная же ситуация складывается во взаимоотношениях родителей и детей, когда ребенку отводится роль объекта воспитания, а родителю – субъекта. «Ты родился для меня, для того, чтобы я поступал с тобой, как хочу», «ты родился, и мне приходится с тобой тут возиться», «я тебя породил, я тебя и убью!»
– Почему так происходит? Казалось бы, родители и дети изначально не чужие друг другу люди…
– Родитель для ребенка (по крайней мере, до подросткового возраста) является специалистом в каждой из перечисленных нами помогающих профессий. Родитель в качестве педагога – это воспитатель и учитель. Родитель в качестве социального работника – это защитник и кормилец. Родитель в качестве психолога – утешитель и собеседник.
В некоторых жизненных ситуациях родитель оказывает ребенку экстренную медицинскую помощь. Родитель в качестве медика, точнее, в качестве того, кто заботится о здоровье ребенка, исполняет функцию лекаря, даже не обладая специальными знаниями, просто используя свой жизненный опыт. И еще родитель в этом качестве – утешитель, сиделка, тот, кто не покинет дитя во время кризиса. В старину бытовали такие слова «хожалка», «хожалец» – сиделка, тот, кто ухаживает за больным. Чаще всего медицинская функция родителя не проявляется, пока ребенок не заболеет.
Все перечисленные отношения тесно связаны с формированием эмоциональных связей между членами семьи. Отношения «собеседников» – самый лучший вариант общения в семье. Приставки «су-, со-» несут в себе указание на кого-то второго, с кем человек соединен или связан глубинной связью. По структурно-семантическому значению слов с этими приставками филологи выделяют их природу: соединение, объединение, подобие, расположение по смежности, по соприкосновению с тем, что указано в корне слова.
Но если родитель выступает по отношению к своему ребенку как субъект, если он объективирует ребенка, то может сложиться ситуация, подобная фабуле повести Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». В этом произведении ребенка объективируют мать и бабушка. Когда ребенок – герой литературного текста – превращается в объект сверхзаботы, сверхзащиты, сверхвоспитания и тотального милосердия, то родные из воспитателей превращаются в менторов и экзекуторов, из защитников – в собственников и манипуляторов, из утешителей и собеседников – в энергетических вампиров. Такая гиперопека доводит ребенка до эмоционально-волевого отупения и программирует его жизненный сценарий на тотальную неудачу.
К сожалению, мне очень часто приходится встречать родителей, которые демонстрировали монологическую позицию: «Нечего мне указывать! Это я его родил(а)! Я лучше знаю, что нужно моему ребенку». При этом своему чаду они то и дело говорят: «У тебя все равно ничего хорошего не получится». Такие родители пытаются навязать ребенку собственные нереализованные мечты, а если видят, что они не реализуются в ребенке, то начинает его «гнобить», то есть формировать из него неудачника. Такие родители – уже не утешители, а плакальщики, не «милосердные самаряне», а «злые санитары».
Александр Колесин, психолог и арт-психотерапевт Фото с сайта pri-kcson.ru
На мой взгляд, подобное происходит, когда родители свои обязанности воспитателя воспринимают как тяжелейший крест, как Божье наказание или как случайное временное явление, которое со временем пройдет. Что же происходит между объектами взаимодействия в такой системе координат (то есть, в монологической коммуникации)?
Мне проще пояснить подобную ситуацию на примере литературного произведения – поступках героев авторской сказки итальянского писателя Карло Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», более известной русскому читателю в вольном переложении Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино».
В завязке повествования двое одиноких пожилых приятелей-алкоголиков с расшатанным физическим и психическим здоровьем сделали попытку изменить свой жизненный сценарий. В оригинале сказки они представлены предельно откровенно: старый столяр «мастер Антонио» (по уличному прозвищу «мастер Вишня», так как кончик его носа был подобен спелой вишне – вечно блестящий и сизо-красный») и старый кукольник «дядюшка Джеппетто» (по уличному прозвищу «Кукурузная Лепешка» – его желтый парик выглядел точнехонько, как кукурузная лепешка», …но «горе тому, кто назовет его Кукурузной Лепешкой! Он сразу приходил в такое бешенство, что никакая сила не могла его укротить»).
Мастер Вишня пытался сделать из куска дерева ножку стула, но тонкий голосок из обыкновенного полена, который алкоголезависимый ремесленник принял за слуховую галлюцинацию, заставил его отказаться от столь трезвого намерения и передать полено Кукурузной Лепешке (в русском варианте – папе Карло). Именно кукольник «подумал, что неплохо было бы вырезать этакого отменного деревянного человечка. Но это должен быть удивительный деревянный человечек: способный плясать, фехтовать и кувыркаться в воздухе. С этим деревянным человечком я пошел бы по белу свету и зарабатывал бы себе на кусок хлеба и стаканчик винца».
Не нужно быть великим психоаналитиком, чтобы увидеть в преамбуле сказки главный мотив поведения Джеппетто – в дополнение к шарманке сделать куклу, чтобы ее эксплуатировать, чтобы ею манипулировать, постоянно держать ее при себе и, тем самым, обеспечить свое земное существование (сравните: «родить ребенка для поддержания собственной старости»). «Какое имя я дам ему? – задумался Джеппетто. – Назову-ка его Пиноккио. Это имя принесет ему счастье. Когда-то я знал целую семью Пинокки: отца звали Пиноккио, мать – Пиноккия, детей – Пинокки, и все чувствовали себя отлично. Самый богатый из них кормился подаянием».
Перед нами классический вариант субъект-объектного взаимодействия: отец – активный, самодостаточный субъект, определяющий жизненный сценарий своего творения; а сын – подчиненный, зависимый объект, вынужденный следовать установленным правилам.
Но ожившая кукла не желает подчиняться этим законам и, в свою очередь, начинает манипулировать своим создателем (родителем). Пиноккио начинает с того, что еще находясь в теле полена провоцирует ссоры и драки между спившимися друзьями, а, воплотившись в деревянном человечке, пытается освоить новый для него мир, разрушая жизненный уклад Джепетто.
Упрямый, злой, наглый и капризный человечек измывается над Джеппето, сбегает из отцовского дома, провоцирует уличный скандал с участием сердобольной публики и добивается ареста Джеппето, обвинив его в жестоком обращении – идеальный сценарий для современной ювенальной юстиции.
Сбыв отца в кутузку, Пиноккио завладевает каморкой отца, в порыве гнева пытается убить Говорящего Сверчка, жившего здесь уже сто лет и сказавшего ему правду про перспективы «счастливого бесконтрольного детства», побирается в ночи, в бреду голода и холода сжигает свои ноги в жаровне.
Спасенный отцом, Пиноккио вторично покидает отчий дом, продает старьевщику школьный букварь, чтобы купить билет на представление бродячего кукольного театра, из жадности и глупости связывается с профессиональными жуликами Котом и Лисой и с «их помощью» лишается золотых монет.
Какая мудрая ирония проглядывает в этой истории про «обогащение без труда» на Волшебном Поле близ города Дураколовки страны Болвании, который через полтора века повторится в телевизионном проекте «Поле чудес» в стране постперестроечных «россиянцев»!
Потом Пиноккио оказывается на четыре месяца в тюрьме, попадает в капкан в момент воровства винограда у местного крестьянина и служит ему за это цепной собакой на охране курятника. Для того, чтобы превратиться из деревянной куклы, занятой вечным поиском Страны Развлечений, в «живого, умного, красивого мальчика с каштановыми волосами и голубыми глазами, с веселым, радостным лицом», главному герою сказки и его ближнему кругу пришлось пройти множество испытаний, суть которых сводится к обретению подлинных человеческих отношений: научению общению и преодолению эгоцентризма.
В финале все заканчивается хорошо, но начинается эта сказка как раз приметами манипулятивной педагогики и наполнена историями про детское непослушание, капризы, нежелание учиться и трудиться.
– Как проявляется монологизм родителей, которые обращаются к вам?
– Речевых и поведенческих маркеров монологизма множество. Самый распространенный из них – когда люди перебивают друг друга во время разговора, не умеют терпеливо выслушать собеседника. Другой четкий маркер монологизма – человек начинает любое предложение с отрицания высказывания другого участника разговора. Мы часто видим такую ситуацию: что бы ни говорил предыдущий человек, следующий участник дискурса начинает строить ответную фразу со слова «нет».
С точки зрения психолога, это не простое привычное употребление слова-паразита, а проявление внутренней установки на отрицание, обесценивание говоривших до этого людей. По этому маркеру легко узнать людей, выросших в советской системе.
Есть целый букет монологического поведения, составленный из стереотипных представлениях о пользе спора. Если ко мне, как специалисту, приходят родители, которым больше 40 лет, а особенно больше 50, то разговаривать мне с ними очень трудно – я часто поначалу вообще не понимаю, о чем люди говорят. Такие родители меня просто не слышат, они узнают в моей речи знакомые слова, у них возникают какие-то свои ассоциации, а реагирует они уже на эти ассоциации. И тут же вступают в спор, просто какая-то страсть к спорам.
Независимо от степени знакомства с той или иной темой люди спорят с уверенностью, что в споре рождается истина. Но, на самом деле, истина в споре, как правило, не рождается: чаще всего она в нем погибает.
Про маркер, о котором я сейчас говорю – когда человек то и дело ставит себя в позицию непримиримого оппонента всем и вся – знают все специалисты, работающие с родителями особых детей.
На самом деле, монологическое поведение – это специфический способ ухода от решения жизненной проблемы, повод разбежаться в противоположные углы ринга для продолжения бессмысленного боя.
Пример: родители из-за каких-то странностей в развитии ребенка обращаются к специалисту. При первой же встрече они пытаются выстроить отношения так, чтобы специалист стал их врагом. «Мы уже получили заключение из института имени Сербского и еще в трех местах за границей. Хотя мы к вам пришли, но мы думаем, что это бесполезно (понимай – «вы такой же шарлатан, как и они»), мы уже всяких перепробовали и на вас мы тоже не надеемся».
Все это может быть сказано в завуалированной форме, в зависимости от воспитания клиентов, но смысл остается прежним – изначальное недоверие к специалистам и завышение собственной самооценки.
Другая крайность – доверчивость каждому, кто заявляет, что может помочь ребенку. Такое поведение естественно для людей, находящихся в фазе уныния. В таком состоянии люди, как часовой маятник, колеблются между надеждой на чудо выздоровления ребенка и отчаянием от крушения этих надежд. Я знаю родителей, чьим детям уже по 40 лет, а они все надеются, что их дети выздоровеют и станут «как все». Это происходит от того, что родители так и не приняли своих детей такими, какие они есть.
Подобные внутрисемейные отношения чреваты созависимостью – психическими нарушениями у членов семей с инвалидами, бедностью – все ресурсы семьи будут уходить на попытки «вылечить» ребенка, развалом семьи – будет забыто собственное счастье и личная жизнь близких людей.
В молодости я раздражался на этих людей, но со временем понял, что это не только их вина, но и их беда. И с этой бедой надо справляться, какова бы ни была ее глубина. Предложив много лет назад арттерапевтическую технологию видео-школы «Семь Я», которая заключается в совместном просмотре и обсуждении художественных фильмов и, через этот прием, в вербализации наших переживаний, я обнаружил, что во время обсуждения фильма родители вместе со специалистами могут не впадать в спор, но каждый будет рассказывать о том, что лично он почувствовал во время просмотра.
И мерилом адекватности восприятия этого фильма человеком является изменение тональности обсуждения после второго или третьего просмотра того же фильма. Говоря о персонажах фильма, участники сессий бессознательно проговаривают свои страхи, беды, чувство одиночества и беспомощности. Таким способом люди могут увидеть свои заблуждения, но, при этом, их никто не уличает в непоследовательности, не «тычет лицом» в обнаруженные логические нестыковки. Только так происходит научение технике диалога.
– Ловите ли вы самого себя на монологизме? И если да, то как с этим справляетесь?
– Конечно, ловлю. У меня есть четкое представление, что я демонстрирую монологизм, когда чувствую, что мне не дают возможности высказать свою точку зрения полностью, мешают мне выстроить все логические связи, показывают всеми способами, что от меня устали – «дескать, люди уже все поняли, а ты продолжаешь долго и нудно объяснять».
Это проявление моей профессиональной деформации, которое называется дидактопатией, то есть желанием всех обучить, нарисовать схемы, проговорить все логические переходы, подтвердить тремя источниками, пятью цитатами, ведь только тогда все получат счастье…
При этом моя сохранная часть психики нашептывает мне: «Где ты видел, чтобы люди становились счастливыми от такого интеллектуально-рационального наполнения разговора?» Поэтому, я нахожу возможным разрешить некоторым близким людям меня останавливать, и я при этом не обижусь. А еще мне помогают справляться с монологизмом юмор и самоирония.
– Как вы преодолеваете монологизм клиента?
– Мы с клиентом должны сотрудничать. Если я чувствую, что сопротивление клиента происходит не от злого умысла, а от незнания и пессимизма, вызванного предыдущим опытом, но при этом человек хочет как-то облегчить свое состояние, то я пытаюсь разными средствами расположить к себе человека – обращением, темпоритмом речи, доказательностью, актерскими способами – и установить партнерские отношения. Хотя чаще всего я инициатор процесса, но моя задача заключается в том, чтобы инициатива перешла к моему клиенту, чтобы он работал со мной «на равных».
Чрезмерно эрудированный клиент, чаще всего, является источником опасности для самого себя. Если в контакте с таким клиентом я сумею преодолеть барьер «многознания» и выйти из парадигмы субъект-объектной коммуникации, то мне удастся гармонизировать состояние клиента хотя бы на то время, пока мы общаемся. Хотя иногда демонстрация собственных знаний и демонстрация возможностей необходима, чтобы преодолеть предубеждение клиента, я стараюсь избавиться от менторского тона и вывести собеседника на диалог. В артпсихотерапии единственно значимая цель – удовлетворение эмоциональных запросов клиента, а это возможно только в пространстве и времени диалога.
И еще один профессиональный прием преодоления монологизма. Практически с самого начала своей работы с особыми людьми я старался не использовать в речи официальную терминологию педагогики, психологии, медицины и социальной работы. Для меня неприемлем не только весь вышеприведенный профессиональный сленг, демонстрирующий подчиненность (от «учащегося» и «проживающего» до «больного» и «дефектного»), но и «огуманитаренные» термины, демонстрирующие социальную маркировку («инвалид», «пациент», «клиент», «получатель услуг», «контингент обучаемых»).
В нормативной документации последних лет используется далеко небесспорная, но все-таки более гуманная формулировка: «люди с ограниченными возможностями здоровья». По крайней мере, здесь присутствует главное слово «люди».
Я обращаюсь ко всем людям, пришедшим на сессию, со словами приветствия: «Здравствуйте, коллеги! Сейчас мы познакомимся с нашими новыми старшими и младшими партнерами».