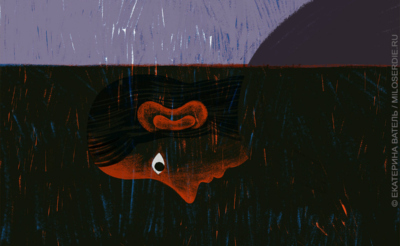Как же быть с грехами отцов?
Недавно в сети обсуждалось расследование убийства органами НКВД Степана Карагодина, которое проводил правнук Денис Карагодин по своей инициативе в частном порядке. Инициатива многими поддерживалась, предлагалось делать перепосты материалов расследования с фотографиями всех причастных, вплоть до машинисток НКВД, печатавших бумаги дела.
Идея получила громкий резонанс, правнуком репрессированного заинтересовались центральные СМИ. Речь шла о восстановлении исторической справедливости.
Эмоции сторонников позиции Д. Карагодина можно понять: ведь сталинизм в России не осужден, как нацизм в Германии, и не названы, не признаны «всем миром» преступления – преступлениями.
Но вот вопрос: на самом ли деле призывы к мести помогут восстановить историческую справедливость и уврачевать раны, полученные тогда и не зажившие до сих пор? Что нужно, чтобы истина и милость – встретились? Эти вопросы мы задали писателю Елене Викторовне Тростниковой.
История одной семьи
— Я расследую историю одного священнического рода, пострадавшего в разные годы гонений, и работаю с архивными делами репрессированных,— начала Елена Викторовна. — И наблюдаю достаточно грустную тенденцию: в наше время информационной засоренности люди разучились слушать и воспринимать информацию, считывают не факты, а сразу идеологическую интерпретацию.
Такое ощущение, что никого не волнует, а что было в реальности. Волнует лишь подтверждение своей позиции или противоречие с нею.
Семья, которой я сейчас занимаюсь — это семь братьев, священников Фавстрицких; все они в разное время, с 1917 по 1937 год, были убиты Советской властью за то, что они священники; ни один из них пока не прославлен как священномученик.
Про двоих младших мы пока знаем только то, как они погибли: одного закололи штыками в алтаре храма, другого – закопали живьем; у нас даже нет уверенности, что этот младший успел принять священный сан.
По семейному преданию, которое подтверждается фактами, один из братьев Фавстрицких – отец Михаил — был убит особенно зверским образом: его привязали к лошадям и разорвали на части.
Там еще жива, но, к сожалению, уже не в памяти вдова причетника, которая рассказывала, как священника разрывали конями. Указывали нам и на другое село в тех краях, в котором зверски был убит священник отец Михаил. Но позже выяснилось, что это был другой отец Михаил, да и погиб он иначе – его посадили на кол.
Зверства первых лет революции оставляли очень мало документальных свидетельств. Например, на Алтае в колчаковский период были партизанские отряды, а позже был развит «красный бандитизм» – это устоявшийся термин.
Понятно, что, когда в порыве классовой ненависти и борьбы убивали попа или иного церковника, это не фиксировали в каких-то книгах учета и даже в оперативных сводках (сводки периода Гражданской войны есть в архивах), а воспоминания участников если и запечатлевали подобные эпизоды, то впоследствии подчищались, засекречивались, да и имен-фамилий в них нет:
убийцам было мало интересно, как звали попа, которого они в порыве стихийной классовой ненависти забили насмерть или пристрелили (о. Петр Фавстрицкий, 21 июля 1919 г., Алтай), разорвали конями (о. Михаил Фавстрицкий, 1922 г.), закололи штыками в алтаре (о. Константин Фавстрицкий) или закопали живьем (о. Григорий Фавстрицкий).
Алтайский край – один из немногих регионов, где следственные дела репрессированных и реабилитированных захотели и успели вывести из архивов ФСБ (теперь закрытых) в общий архив, где и сейчас с ними можно свободно знакомиться и работать.
В 30-х годах уже тщательно документировались и аресты, и допросы, и вынесение приговоров, и их исполнение. В 1937–38 году Тройка НКВД могла за одну ночь вынести 100-200 приговоров. В декабре 1937 года зафиксированы рекордные цифры, когда на одном заседании выносились приговоры, почти сплошь расстрельные, более чем двум тысячам людей. Но все эти приговоры и предшествовавшие им протоколы допросов и обвинительные заключения сохранялись.
Так, о. Иоанн Фавстрицкий был приговорен к расстрелу на самом первом заседанием Тройки Управления НКВД по Алтайскому краю. 20 октября 1937 г. на заседании Политбюро было принято решение: «Утвердить предложение Алтайского крайкома ВКП(б) об увеличении количества репрессированных контрреволюционных элементов по Алтайскому краю по 1 категории 4 тыс. чел. и по 2 категории — 4 500 чел.».
1-я категория означала расстрел. Яснее ясного, что на первом заседании Тройки было начато безудержное движение к выполнению этого плана и расстрельные приговоры выносились один за другим.
Протоколы следствия страшны тем, о чем они молчат
В алтайском крае с нами был диакон Игорь Выгановский, правнук о. Михаила Фавстрицкого. Он знал, что его деда, поляка, расстреляли в Славгороде так же по приговору Тройки НКВД, и, когда мы заканчивали просмотр следственных дел Фавстрицких, на всякий случай поинтересовался, нет ли здесь и дела его деда. Неожиданно оказалось, что есть —и дело очень быстро принесли.
Мы сели дело просматривать, и – даже мне, в сущности, постороннему человеку, стало нехорошо.
Пухлое дело, при самом беглом просмотре которого видишь, как на допросах раздувается на ровном месте видимость разветвленной зловещей организации, намеревавшейся взорвать всё на свете и продать советскую страну буржуинам с Запада: люди один за другим признаются в чудовищных намерениях, рассказывают, при подсказке следователя, кто их завербовал, выдумывают, кого они сами завербовали…
Протоколы следствия страшны не столько тем, что в них записано, сколько тем, о чем они молчат.
Следователь: «Подследственный, расскажите о вашей контрреволюционной деятельности». Подследственный: «Своего участия в контрреволюционной деятельности не признаю, против советской власти я не выступал».
Следователь: «Против Вас есть такие-то свидетельские показания, что Вы занимались контрреволюционной деятельностью и принимали участие в контрреволюционной организации». Подследственный: «Нет, эти сведения неверны, свидетель такой-то на меня клевещет, я не был участником контрреволюционной организации».
Следователь: «И все-таки, признайтесь, что Вы были участником контрреволюционной организации».
Подследственный: «Разрешите подробно рассказать о моем участии в контрреволюционной организации…».
Следователь: Разрешаю».
И дальше идет рассказ про это самое — как был завербован, как для того, чтобы взорвать все предприятия города и края, сам вербовал новых участников, и прочее и прочее…. И понимаешь, что между этими идентичными вопросами есть промежутки безмолвия протокола, после которых человек начинает рассказывать и подписывать всё, чего требует от него следователь. Это — страшно.
Люди поколения, пережившего репрессии, обычно вообще не рассказывали о том, через что им довелось пройти. И только в отдельных случаях к концу жизни человек «проговаривался». Так было с матерью братьев Фавстрицких, Любовью Степановной, которая в последний месяц своей жизни стала плакать и говорила:
«Всех сыночков пережила, все со смирением приняла, одного не смогла принять – что последнего в землю большевики живьем закопали».
А на протяжении всей ее жизни никто из тех, кто был с нею рядом, никогда не слышал от нее о том, что произошло с ее младшим сыном, вообще о том, что он жил на свете! Но имя – «уб. Григорий» — сохранилось в ее синодике.
Эти люди молчали для того, чтобы просто могли выжить их дети. И поразительно, когда после полувека молчания мы пытаемся отыскать прошлое — вдруг оказывается, что память буквально прорастает из-под вытоптанной земли, там, где ее и не ждешь встретить…
Найти палача?
Но когда кто-то начинает требовать справедливости, разыскивая палачей, – мне это кажется странным. Я думаю, что прежде всего надо не искать палачей, да еще зачисляя в их число всех причастных — шоферов, машинисток, техничек НКВД. Надо восстанавливать память о тех, кто пострадал, кто принял мучения, — тех, кого мы должны продолжить.
А по поводу палачей – и здесь все сложнее, чем хотелось бы публике. Вот, например, услышала я такую семейную историю. На женщине непролетарского происхождения с очень тяжелой судьбой женился простой и очень добрый деревенский парень, назовем его Петей. Он фактически спас ее по меньшей мере от голодной смерти, от преследований, он простодушно ее любил и пылинки с нее сдувал, и он был действительно очень добрым и простосердечным человеком.
А служил он — в НКВД. Наступило время, когда у него работы становилось все больше, он приходил домой все позже, с почерневшим лицом, сам не свой, стонал во сне. А потом — застрелился. Потому что нежная и простая душа его не выдержала той страшной работы, в которую он был втянут и о которой он никогда не мог рассказать любимой жене.
Он был добрый человек, которого уничтожила та же страшная машина. И да, конечно, он был палач. И он — тоже жертва.
Вообще, думая о нашей истории, я неизбежно прихожу к выводу, что вне Христа нельзя увидеть СМЫСЛ в истории страны, и жизненные пути и страдания людей тоже предстают бессмысленными и напрасными.
Вне Христа невозможно вообще вместить весь этот ужас, эту боль, эти страдания: останется только или проигнорировать их, или даже оправдать, как делают многие («Даром не сажали, не расстреливали!»), или… или помешаться на идее возмездия — войти в круговорот расширяющейся ненависти и в духовном отношении уравняться с палачами.
Око за око, или же античная трагедия, в которой нет выхода из цепочки мести: надо убить убийцу, а потом быть убитым за убийство убийцы, а потом быть отомщенным за то, что тебя убили, и так далее…
Поразительно, что люди, которые числят себя православными христианами, видят справедливость в том, чтобы мстить. И вот уже наше общество вновь раскалывается на «красных» и «белых», причем без полутонов, и «чужого» скоро будут готовы забить ногами. Реальная история страны мало кого интересует: интересует именно идеология, а живая память о живых людях при этом не нужна.
Мне же кажется, что восстановление исторической правды как раз и состоит прежде всего в том, чтобы помнить. Чтобы память о безвинно пострадавших, о величии их духа не пропала бесследно. А месть – ведь это и есть то, что мы видели в 1937–38 годы. Месть – это бесконечная череда убийств, это порочный круг, который невозможно разорвать.
Разве это нам нужно?