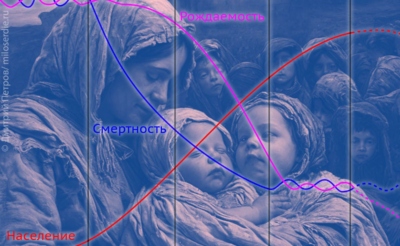Сайт Милосердие.ru уже рассказывал о непростой судьбе Александры Алексеевны Штевен (в замужестве – Ершовой). Настоящим мы продолжаем, но, если Бог даст, не завершаем публикацию фрагментов из ее записок.
9.IХ.1925 г.
Мир видимый во власти видимых стихийных сил. Но есть и мир невидимый, таинственный, и им управляют «путями неисповедимыми» невидимые, таинственные силы.
Страшная буря разрушила нашу и общую прежнюю жизнь. Вместо нее, будем надеяться, создастся жизнь иная, новая. Но мы, доживающие свой век, уже вряд ли сможем быть участниками этого нового созидания. Однако есть у нас нечто свое, сокровенное и неотъемлемое, и есть основанное на нем неизменное внутреннее делание, есть свободное, неудержимое и недосягаемое для внешних враждебных сил, внутреннее строительство.
И все мы, кто обладает этим драгоценным сокровищем, все мы ищем других, обладающих им. Все мы братья между собою и жаждем сближения, общения, взаимной помощи. Все мы с радостью хотим поделиться той долей света, которая дана каждому из нас, и хотим укрепить свою веру верою других. И когда для нас возможно это радостное духовное общение, тогда отходит от нас все страшное и мучительное, тогда разгорается в нас душа, и мы можем хоть на мгновение с силой и ясностью «во свете Его увидеть свет» – и уже никогда не забываем, что хоть на мгновение, но видели Его.
Первые христиане, прибыв на место ссылки и проходя через незнакомую толпу в незнакомом городе, творили незаметно крестное знамение, и это замечали замешанные в толпу местные христиане, и тоже творили крестное знамение, – и между чужими, не знавшими друг друга людьми, сразу возникало братское общение и братское единение.
XII.1925 г.
Мы часто очень, очень плохо веруем, и тем более несовершенна наша слабая, грешная, суетная молитва, и еще более жалка, ничтожна, греховна, далека от Бога наша жизнь. Но поскольку есть в нас искра света и поскольку мы способны любить доброе и прекрасное, постольку естественно для нас любить Христа.
Если хоть раз мысленно увидеть Его, и если хоть искру любви иметь в себе, нельзя не полюбить Его больше всего, что есть в мире.
Только тот, кто совсем не видел Его, может не любить Его. Только те, которые совсем не знают Его, могут думать, что Его «не было» . Мы же, хотя бы мельком «увидевшие» Его, мы, полюбившие Его, потому что невозможно не полюбить Его, мы можем только улыбнуться при виде такой странной, ребяческой слепоты. Его – не было?!.. Но ведь Он не только был, Он есть. Ведь всякое другое бытие – ничтожно, гадательно, бессодержательно, мимолетно перед Его великим, ярким, несомненным, неизменным бытием. Не для тех только счастливых, которые всецело живут Им и таинственно соединены с Ним могучей и неизменной верой и любовью, но и для нас, жалких маловеров, прикованных к персти земной и едва только изредка касающихся края одежды Его, и для нас Он теперь, как и всегда, – Единая Истина, Единая Жизнь, Единый Путь, Единый Существующий среди ничтожных, сомнительных, обманчивых, преходящих и ненужных призраков.
И Его – никогда не было?! Он «совсем не жил»?! Он – продукт легенды, продукт «коллективного творчества»?! Но как же могли люди «выдумать» то, что так недосягаемо высоко парит над ними? Как могли они создать нечто несравненно лучшее и большее, чем они сами? Может ли творение быть больше творца? Изделие больше делателя? Люди «выдумали» Христа, и стали затем целыми тысячелетиями и бесчисленными поколениями жить Им, этим «выдуманным» ими Христом?! Да ведь это же гораздо более невероятно, это гораздо более противоречит нашему же человеческому «здравому рассудку», чем какие бы то ни было чудеса и какие бы то ни было непонятные догматы. Ведь Он явился – и весь мир был потрясен Им, мир двинут Им, мир полон Им. Ведь Им и с Ним, а не без Него и не помимо Его, живут все, кто живет, если жизнью считать жизнь духа, жизнь стремлений, запросов, задач и целей. Им живут те, кто за Него; Им живут и те, кто против Него, но стояли и стоят за ту же Его идею, за те же Его идеалы. Не могут забыть Его те, кто верует в Него; не могут забыть Его и те, кто Его отрицает, и Его, отрицаемого, «несуществующего», ненавидят… С Ним одним ведь только и сражаются безбожники. Он так несомненно был, что правоверные евреи до сих пор боятся имени Его, и не любят называть Его, и смущены, удручены несомненно бывшим явлением Его. Он так несомненно был, что два тысячелетия остался тем, чем был, ни на иоту не изменившись. Он весь, всегда и всецело жив и живет. Он однажды явился миру в полном, ярком, несравненном образе Своем, и до сих пор является в том же неизменном, дивном Своем Образе всем бесчисленным рожденным после Него поколениям, во всех странах и народах мира. Он является в Евангелиях, в Деяниях, в Посланиях. И все говорящие с нами с немногих кратких страниц этого Священного Писания Нового Завета, все говорящие в полном согласии между собою «очевидцы и свидетели Слова» или говорят о том, что они действительно видели и слышали, или же приходится думать, что и они тоже «выдуманы», и последователи их «выдуманы», и последователи их последователей «выдуманы», и все «славное мученическое воинство», все бывшие после них подвижники, исповедники и проповедники тоже «выдуманы», и тоже, может быть, «плод коллективного творчества»?!
IV.1929 г.
Всех нас, хотя бы в слабой степени узнавших и полюбивших живого, явного, неизменного, не умирающего во все дни и до конца веков с нами пребывающего Христа, нас ни мало не смущает наше незнание, наше недоумение относительно некоторых касающихся земной Его жизни подробностей и недомолвок, и некоторых кажущихся противоречий в евангельском повествовании о Нем. Разве в этом суть? Разве сомневаюсь я в существовании моего отца или слабее становится моя любовь к нему, потому что смутны мои детские воспоминания о нем и не всегда согласуются в подробностях рассказы о нем самых даже близких к нему лиц?
Тогда, конечно, можно было, а теперь уже невозможно выяснить эти подробности и кажущиеся противоречия. Но что в том? Какое может это иметь значение? Как сын или дочь не могут даже и представить себе собственного своего существования, не признав прежде всего существования своих родителей и тех, кто воспитал их, – так и мы, узнавшие Христа, не можем представить себе ни себя, ни своей жизни, ни жизни мира и всего, что существенно в мире, не признав прежде всего существование Христа и всего того, что Он внес в мир и без чего не могло бы быть и мира. Он так наполняет собою всю самую лучшую и ценную, всю самую существенную область нашей жизни и жизни мира, что нам трудно даже и представить себе, чем мог быть мир до Него, и чем он был бы без Него, и что Он такое для тех, кто совсем не знает Его.
А между тем мы, грешные и слабые, едва только и крайне смутно знаем Его, мы едва только мельком вспоминаем и робко, малодушно любим Его, мы едва только касаемся края одежды Его. Чем же является Он для тех, кто истинно и всею силой души обладает Им?…
—————–
И вот в чем первый и самый главный, самый жизненный для нас вопрос: как могли бы тоже и мы, грешные и слабые, но любящие Его, приблизиться к Нему и лучше, полнее, полнее обладать Им? Как нам вернее и лучше найти в Нем путь, и истину, и жизнь, и покой душам нашим?
С этим главным и самым существенным вопросом связаны многие и многие другие, важные и трудно разрешимые для нас вопросы. Они столь же неотступны, как и трудно разрешимы для нас, увы, далеких от Христа. Для тех же, которые близки к Христу, для тех, которым Он уже даровал мир Свой, вопросы эти почти уже не существуют. И потому мы у них (говорю это с обидой) мало находим указаний и руководства в слепоте нашей и слабости в этом отношении.
Как приблизиться к Христу нам, любящим Его и все же прикованным к персти земной?
Кем-то было сказано, что для человека неизбежны три трагедии: трагедия познания, трагедия любви, трагедия смерти. Да, и самая тяжелая и неизбежная из них – это трагедия любви.
Мы можем отказаться от познания в пределах настоящей, земной нашей жизни, в надежде, что оно откроется нам в жизни будущей.
Примириться со смертью своею даже и не трудно. Примириться со смертью любимых – несказанно трудно. Но и с их мучительно терзающей нам душу смертью мы примиряемся, ожидая собственной и ожидая воскресения мертвых. И тут уже нет дилемм, нет вопросов, нет противоречащих одно другому требований. Смерть любимых – это незыблемый факт, – это рана, которая не заживает, это крест, который мы должны нести до конца своих дней. И нам достаточно ясно сказано, как мы должны его нести. Тут нужна покорность, и только.
А трагедия любви всегда полна дилемм, вопросов и недоумений. Мы знаем, что должны любить – любить как можно больше, сильнее и нежнее, любить всегда, в каждый данный час и миг, не откладывая ни на минуту дел любви, потому что для любви время коротко, и скоро наступает час, когда уже никто не может делать.
И вот у нас, грешных, не хватает сил, не хватает времени, не хватает мудрости, чтобы выполнить все разнообразные требования, связанные с сущностью нашей любви, чтобы разрешить недоумения и примирить противоречия, чтобы совместить любовь к немногим близким с любовью ко многим, ко всем, любовь к людям с любовью к Богу и спасением душ наших, с исканием и творчеством духовным, с «почестью вышняго звания».
Мы знаем, конечно, что нельзя ради пользы близких причинять вред далеким. Но как ради блага одних не пренебречь благом других, как ради блага близких не пренебречь благом далеких, и наоборот? Пойти ли в церковь или дождаться и накормить тех «своих», которые вернутся с работы? Молиться ли или кроить и шить для тех, кого нужно одеть?… И в этих мелких повседневных недоумениях мы почти не находим помощи у мудрецов и проповедников; мы вынуждены одиноко и ощупью, в одном малом личном нашем опыте искать указаний и выводов, надеясь лишь на сокровенную помощь Божию во всех делах и всех исканиях наших.
——————-
Москва, Пресня. 1.IV.1929 г.
Астроном Лаплас говорит, что исследовал все пространства небесные и нигде не нашел Бога. Но странно было бы, если бы он так нашел Его. Все, что он мог найти, было бы не Бог. Все зависит, конечно, от того, как искать. Другой великий ученый, Ньютон везде находил Бога. Также, кажется, и Дарвин.
Какой-то еще ученый врач сказал, что сделал сотни вскрытий и нигде не нашел души. Но все, что он нашел бы при вскрытиях, это была бы во всяком случае не душа.
Есть клетки и ткани нашего тела, и есть наше «я», живущее в нем. Есть мозг, и сердце, и нервы – орудия мысли, и памяти, и ощущений, и есть в нас некто размышляющий, есть некто вспоминающий, есть некто ощущающий… И не водород и углерод в теле человека, а что-то еще, «он сам», его «я», его душа живет и радуется, скорбит и ужасается, любит и негодует, сомневается и верит.
Если человек только машина, то как же машина может сама себя наблюдать? Как может машина сама собою управлять? Кто-то еще, какой-то ее хозяин управляет ею, и когда она износится или сломается, он уходит и бросает ее, и машина разрушается. Но разве это значит, что всегда была одна машина, а хозяина никогда и не было?
Чем более заметно отсутствие души в мертвом, тем более явно ее присутствие в живом, и то, что ею именно и жив человек.
Как душа наша таинственна и все же безусловно реальна, так таинственны и все же вполне реальны тоже и ее потребности. Они также реальны и неодолимы, как и потребности тела.
Мы живем и не знаем, что значит жить. Мы размышляем и не знаем, что значит мыслить. Мы не знаем, кто мы, и откуда пришли, и куда идем. Мы только можем думать, что мы – черви земные. И вот мы, без сомнения, мы все в ней, черви земные, хотим своею мыслью охватить вселенную; хотим все в ней понять, и хотим не только того, что видим и знаем, но и еще чего-то, чего нет, – хотим красоты, а не безобразия, хотим не зла, а добра. Всего этого хочет, настойчиво хочет что-то таинственно в нас живущее; хочет не тело наше, а наша душа. И человек, ощущающий в себе эту свою душу и все ее настойчивые, несомненные требования, ни за что и никогда не поверит, что души в нем нет. Он скорее готов допустить, что у него нет рук и ног. Он вполне готов признать, что их у него может и не быть, и может не быть вообще тела. Но душа его – это его «я», и она без сомнения существует.
Может быть, не все существа имеют такую, сознающую себя, душу, и, конечно, не все души имеют одни и те же потребности. Но, конечно, были, есть и будут бесчисленные души, которые твердо уверены, что они существуют, и души, которых стремление к истине, добру и красоте есть столь же явный и несомненный факт, как и закон тяготения или потребность тела в питании, в тепле, в движении и покое.
Несомненно еще и то, что мы хотим чего-то, чего мы во временной, земной нашей жизни иметь не можем. И это, конечно, значит, что то, чего мы хотим, существует и вероятно достижимо для нас в каком-то ином мире, в какой-то иной жизни.
Не могло бы быть стремлений, если б не было объекта этих стремлений.
Если человек хочет пить, он может получить или не получить то, чего хочет. Но не может совсем не быть того, чего он хочет; не может совсем не быть питья, раз он создан так, что хочет пить.
Не могли бы люди хотеть, чтобы все существующее имело смысл и цель, если б в мире совсем не было ни смысла, ни цели. Не могли бы люди стремиться к постижению смысла и цели своего существования, если б смысл и цели существующего не должны были им так или иначе открыться. Не мог бы человек так упорно и страстно, среди всех окружающих его зол, хотеть добра, если б оно не существовало где-то и не было бы ему так или иначе предназначено. Не может человек хотеть большего, чем дано миру.
И если человек – только песчинка во власти слепой стихии, если он только пузырек, который вздулся и лопнет, как могли в нем возникнуть все эти запросы, все эти требования? Если они в нем возникли, это значит, во-первых, что он – не только песчинка и не только пузырек, и значит еще, что на свои вопросы он должен получить ответ, и что требования его должны получить удовлетворение.
——————
«Религия» значит «связь». Есть нечто, что связывает человека и временную жизнь его на земле с жизнью мира, с вселенной, с вечностью, с Богом. Человек, когда он поистине человек, не может не ощущать этой связи и не может не стремиться постичь ее; он не может и не хочет жить в себе одном. И потому его религия есть самое нужное и важное, чем он может вообще обладать.
Религия не только не противоречит человеческому разуму, но когда разум человека спрашивает о том, о чем ему свойственно и естественно спрашивать, религия именно ему, этому разуму, и должна отвечать. То, что противоречит разуму, то, что разум может опровергнуть, – не есть религия.
Есть религия – и есть суеверия.
Есть религия, и есть ее принадлежности, есть обряды и обычаи, которые могут быть и не быть, могут сохраняться и могут измениться.
В область религии входят истины, которые человек не может точно выразить неуклюжими своими словами, и может воспринять только в виде символов и образов. И такие символы и образы могут быть различны в разные времена, у разных людей, и могут иногда уступать место другим символам и образам. Но есть в религии то, что остается неизменным и неизменно бывает нужно человеку как необходимый для него ответ на основные исконные запросы его человеческого духа.
Религия открывает человеку не все то, что он хочет знать, но все то, что ему нужно знать, чтобы жить.
Религия не есть вся истина. Это – та доля истины, которая доступна человеку и спасительна для него. Человек весьма многое не в силах понять. Так, он не может представить себе ни конца, ни бесконечности в пространстве и во времени.
Тоже и основные истины религии таинственно даны ему, но остаются и всегда останутся непостижимой для него тайной.
Кто-то из святых сказал, что эти основные религиозные истины подобны солнцу. На него нельзя смотреть, но в свете его мы видим все, что нам нужно видеть. Когда же солнца нет, мы ничего уже не видим. Так и основные религиозные истины мы не в силах себе уяснить, – но только признав их с верою, мы находим объяснение всему, что нам необходимо знать и понимать. Без них же мы ходим во тьме и не знаем, куда идти. Если мы, тоже и веруя, многого не знаем, религия говорит нам, что Кто-то знает, а потому и мы, которые не знаем, но спрашиваем, можем надеяться, что некогда узнаем и поймем.
А в настоящей временной нашей жизни мы знаем, что одно является нам добром, а другое – злом, и видим еще, что одни наши понятия и представления ведут нас к добру, а другие – ко злу. И вот то, что ведет нас к добру, и есть для нас та истина, или та ее доля, тот символ, то отражение истины, которые нам необходимы, и потому нам даны и предназначены.
Прочие истины, не имеющие отношения к доступному и нужному нам добру, могут быть нам открыты, или же утаены от нас, так что мы можем не знать их, и можем жить, не зная их.
Но мы, если хотим добра и правды, мы не можем обойтись без тех религиозных истин, которые ведут нас к добру и правде. Мы не можем и не должны жить без нужной нам религии, и в силу самых существенных требований нашей природы, не в противоречии, а в полном согласии с нашим разумом, как и со здравым нашим чувством, должно создаваться в нас религиозное наше мировоззрение.
На Пресне. 1.IV.1929 г.
Когда мы живем одним рассудком и верим только в то, что видим и осязаем, наши жизнь и судьба почти вполне подчинена бывает миру видимому и осязаемому, цепи обычных, неизбежных причин и следствий. Но когда мы верим в высшее начало, в мир невидимый, таинственный, духовный, и когда обращаемся к нему, т.е. к Богу, – мы тотчас же в себе, в нашей жизни и нашей судьбе замечаем иное, таинственное, невидимое, чудесное воздействие и присутствие. Уж точно: надо верить в чудеса – и тогда бывают чудеса.
——————-
Человек живет в мире, и мир требует его внимания, его усилий и попечения. В этом, по изволению Божию, земное наше призвание, или может быть, одна из ступеней, одна из областей назначенного нам пути.
Если б миры иные, если б мир высший, духовный, столь же был явен и ясен человеку как мир ближайший, видимый, вещественный, он не мог бы в должной мере отдавать свои силы и свое внимание этому ближайшему, низшему, вещественному миру. И потому, вероятно, мир духовный скрыт от человека и является ему лишь изредка, проблесками, неясно и гадательно. Но чтобы мы не забывали о существовании этого высшего духовного мира, он открывается более явно и ясно некоторым избранным, лучшим, святым людям, и люди эти призваны быть нашими вождями и наставниками в мире земном.
И всякому человеку высший духовный мир открывается иногда, изредка, и часто с потрясающей силой и ясностью, в некоторые особые мгновения и часы его жизни, – и особенно в часы тяжелых страданий.
——————–
Люди часто говорят: если есть Бог, почему зло, почему страдания? Скорее надо бы сказать: если Бога нет, как понять зло, как принять страдание? Если б люди жили, не греша и не страдая, они могли бы довольствоваться таким своим безмятежным существованием и ничего иного не хотеть, и ни о чем не спрашивать. И если б в мире было одно зло, и участь людей была только злая, люди поневоле должны бы были признать это за должное и покориться неизбежному. Но мы видим в мире ровно столько добра, чтобы нам верить в него и хотеть его. И мы видим вполне ясно бездну зла и страданий, видим бесчисленные, как нам кажется – бесплодные, усилия и жертвы, видим бесчисленные, безнаказанные, как нам кажется, злодеяния, видим постоянно гибель прекрасного и доброго и торжество безобразного и злого, порока и лжи. Мы видим все это и все же не можем принять это как должное, и не можем не хотеть объяснения, исправления, оправдания всего этого явно существующего зла. Нельзя найти объяснения, нельзя найти оправдания для всего того, что мы видим, если не иметь веры в Бога, в Промысел Его и в мир иной, невидимый.
Только веруя, что жизнь наша есть не только вообще, но и для нас, для нашего сознания, один лишь краткий эпизод всей вообще нашей жизни, мы понимаем, почему мы недовольны этой нашей жизнью и хотим иного, большего, лучшего, – хотим Царствия Божия и правды его.
Москва, Пресня. IV.1929 г.
О детях
Когда человек довольствуется безрелигиозным, материалистическим мировоззрением, он урезывает и подавляет в себе все существенные человеческие стремления и вековечные запросы. Он видит в мире и людях лишь заурядное, будничное, низменное. Но мир и люди – не только в этом, и не это важно, не это знаменательно.
Какие чудные, прекрасные свойства и дарования можно иногда увидеть в детях и юношах, которым суждено было рано умереть, так что эти их свойства и дарования ни в чем внешнем и материальном не проявились и никому не стали даже и известны, кроме немногих близких. Жажда познания и постижения, пламенное требование справедливости, любовь к людям и горячее желание служить им, радостная отзывчивость на все доброе, на любовь и нежность, энергия, мужество – все это, едва мелькнув в этих чудных существах, часто исчезает вместе с ними внезапно и неожиданно, по каким-то ничтожным и странным, случайным причинам. А остается в мире, и живет, и действует, и заполоняет мир и господствует в нем огромное множество существ посредственных и пошлых, часто безобразных, часто злых и порочных. И, может быть, те наиболее чистые и прекрасные детские и юношеские души должны были, пожив немного, уйти из этого мира, потому что очень уж велика противоположность между ими и этим миром, и очень уж много пришлось бы им страдать из-за этой противоположности, – или же пришлось бы измениться и стать такими же, как и все…
Но если иного мира и иной жизни не существует, – зачем им было появляться и тотчас же опять исчезать?
Эти дети-ангелы, эти светлые юноши, конечно, существуют потому, что нужны и драгоценны сами по себе, а появляются они в мире, чтобы миру через них хоть мельком, хоть отчасти раскрывалось нечто более прекрасное, чем то, что обычно в мире и свойственно ему.
Поразительна бывает непосредственная, не рассуждающая, необъяснимая жажда добра некоторых таких юных и неиспорченных человеческих душ. Она пробуждается в них вместе с первыми их детскими мыслями и чувствами, и часто независимо от влияний среды, часто даже в противоречии с этими влияниями. Какое-то есть чудное благоухание, какой-то есть особый свет в этих избранных детских душах, и это видно бывает в лицах, в глазах, в улыбке таких детей, – и это что-то действительно «ангельское» и «не от мира сего», и особенно поражает, волнует и трогает, когда перед нами не младенец с его бессознательной невинностью и прелестью, а маленький человек, уже рассуждающий, уже могущий грешить.
Таков был мальчик, внезапно, по несчастному случаю окончивший жизнь 3/V 1919 г., 9 лет. Они с братом-близнецом дразнили иногда старшего брата 17-18 лет, и тот обыкновенно сердился, бранился и бил их, и гнался за ними, а они убегали от него и продолжали его дразнить. Но раз Павлик пришел ко мне взволнованный и рассказал, что после этого Митя, старший брат, позвал его к себе в комнату, и он боялся идти, а Митя не только не стал бранить и бить его, но подарил ему что-то и приласкал. И когда Павлик рассказывал мне про это, личико его так и сияло от радости и умиления, как будто он увидел то самое, что любил, то самое, чего хотел…
Я знала девочку 7-9-11 лет, которая играла в куклы с сестрами, радовалась и огорчалась, ссорилась и мирилась, как все дети, – и жадно смотрела на мир, и любовалась им, и, вместе с тем, ждала и жаждала чего-то, чего не находила, – как будто мир был хорош, но все же не таков, каким должен быть. В богатом доме, в просвещенной семье, среди удобств и удовольствий, любви и попечений всякого рода, она спрашивала себя, почему одни люди живут в хороших домах, а другие в плохих, одни несут тяжелый труд, а другие (как ей казалось) ничего не делают? И вместо того, чтобы только играть и веселиться, она плакала, глядя на изображение распятого Христа, и на картинку с изображением человека, подвергаемого пытке в средневековой тюрьме, и на другую еще картинку – вид рудника где несколько человек было засыпано и умерло от голода, потому что люди не захотели во время откопать их. И чтобы больше не плакать об этом, девочка долго, не отрываясь смотрела на изображение воскресшего Христа и Его вознесения на небо. Только это одно и утешало горячее, тоскующее детское сердце, не хотевшее мириться со злом, хотя бы и далеким, хотя бы и давним, в неотступном, страстном требовании объяснения, оправдания, торжества справедливости. И если даже ребенок жаждет и требует этого, и это не есть в нем аномалия или уродство, а есть самое лучшее и ценное, что в нем может быть, – как может эта жажда быть бессмысленной и напрасной? Как может весь мир быть построен на началах необъяснимого, неоправданного, невознаградимого, бессмысленно жестокого страдания и зла?
Конечно, то доброе, что нам грезится, то прекрасное, чего мы жаждем, то оправдание существующего, которого мы настойчиво требуем, должно когда-то и где-то осуществляться, и, конечно, не в меньшей, а в большей степени, чем мы можем себе представить.
Но если добру суждена в мире победа, почему мы здесь видим его только смутно и мимолетно, так что едва можем верить в преобладающее его значение? Почему существует в мире, почему допущено, почему так явно и нагло проявляется все это зло, которого мы не хотим, которое нас терзает и приводит в ужас, в уныние и, часто, в отчаяние?
Почему мы здесь, в этой жизни, видим не торжество добра, а разгул, и силу, и преобладание зла?
В жизни моей была минута, когда я на этот, самый страшный и роковой вопрос, получила, как я думаю, неопровержимый, исчерпывающий ответ.
Мне случилось раз в человеке, мне близком и горячо любимом, увидеть особенно яркое проявление зла. Тут не было ни корысти, ни расчета, ни слабости или малодушия, ни забвении добра в увлечении страстью. Нет, тут было именно проявление сознательного и определенного зла, как прямой и явной противоположности добру, – и выразилось это в поступке мелком, неважном, ненужном, бесцельном – и тем более отвратительном.
И вот, при виде этого зла, возбудившего во мне особенно острое и мучительное чувство отвращения, я с небывалой ясностью поняла и почувствовала, зачем вообще существует, зачем допущено Богом, зачем так резко и мучительно проявляется и так нагло торжествует это ужасное, отвратительное, гибельное зло.
Это вдруг открылось мне с неотразимой, потрясающей силой – и оставило след свой в душе моей навсегда.
После только что пережитого мучительного отвращения к бесстыдно и задорно проявившемуся злу, во мне внезапно, как яркое пламя, загорелся небывало сильный порыв к добру, и загорелась небывало сильная, всепобеждающая любовь к этому далекому, скрытому, как будто слабому, затемненному злом, отступающему перед ним, едва видимому, едва доступному нам, и все же несомненно существующему, несомненно дарованному нам и предназначенному для нас добру.
И этот мой небывало сильный порыв к добру, это пламя любви к нему и сверкнувшее, точно при свете молнии, неотразимое убеждение, что добро есть начало всему, что оно существует, что оно вечно, что оно побеждает, что оно назначено нам и ожидает нас, – все это тогда доставило мне чувство несказанной радости и полного, блаженного успокоения.
Мы – не растения и не животные. Нам не дано и не подобает жить жизнью пассивной, неподвижной, безмятежной, безразличной, творящей доброе ради удобства, по привычке или по одному лишь неведению зла. Мы, в силу своей человеческой природы и свободы, нам предоставленной, призваны к иному: мы должны любить, пламенеть, стремиться, творить и достигать, и должны ставить себе целью не преходящее и мелкое, не частное и обманчивое, а вечное и великое, то, что не пройдет и не обманет, то, что выше и лучше всех возможных наших помыслов и самых светлых наших грез.
Мы должны прежде всего искать Царствия Божия и правды его, и нужно зло, нужно торжество его, нужно видеть его во всех самых страшных и отвратительных его проявлениях, чтобы научиться с достаточной силой и достаточным жаром любить добро. Но любить добро в достаточной мере мы не можем, не познав Христа и не возлюбив прежде всего Его и то добро, которое в Нем явилось миру.
Москва, 5/VI 1929
Зло нужно, чтобы мы сильнее любили добро. Нужно, чтобы оно проявлялось и действовало, и потрясало, и ужасало нас; нужно, чтобы оно заражало собою и вызывало подражание, и возбуждало еще более злые страсти, и еще более ужасающие их проявления, – и нужно, чтобы мы не забывали о зле, не отвертывались от него, не искали для себя покоя в снисхождении и всепрощении, но всегда готовы были вести напряженную, неустанную с ним борьбу. Мы можем и должны прощать и забывать лично нам причиненные обиды, но не смеем забывать и прощать зло мира вообще, как не смеем забывать и прощать обиды, причиненные другим.
Москва, 9/VI 1929.
Человек не переносит зла и не находит для него оправдания, не находит для него объяснения, если не признает его проявлений за необходимое условие для выявления и усиления добра и любви к добру.
Человек не переносит и страданий, и не хочет мириться с ними, если не находит для них объяснения и оправдания в последующем спасении и избавлении.
Какой-то остроумный француз (кажется, Ларошфуко) сказал, что нечего нам бояться смерти, потому что, пока мы живы, смерти нет, а когда умрем – нас нет… О жалкий софизм, о невероятный, преступный эгоизм типичного не-религиозного понимания вещей!
Да разве, когда мы живы и благополучны, не умирают и не страдают другие?
Разве, когда нас нет, – уже ничего вообще нет?
Человек восстает даже и против страдания заслуженного, – ибо как определить, кто и что заслужил?
Если страданием все кончается, человек не может принять его даже и в виде праведного возмездия, и еще менее, если предположить, что страданием одних искупается благополучие других.
Человек говорит тогда словами Ивана Карамазова: если для блаженства всего мира нужно замучить одного крошечного ребенка, – не нужно и мирового блаженства!
И если не иметь религии, если думать, что нет в мире разума, кроме нашего слепого, мятущегося, недоумевающего разума, и нет для нас исхода, нет жизни, кроме той, которая так часто на глазах у нас в мучениях кончается, – невозможно никакое иное отношение к страданию и злу, кроме тупого равнодушия человека-зверя, или мрачного отчаяния Ивана Карамазова.
Но ведь возможно и существует совсем иное миропонимание. Веруя в Бога, в Промысел Его и в жизнь иную, будущую, мы можем верить в спасительность страдания. Спасительно оно не тогда, конечно, когда человек страдает и обращается в ничто, и стало быть спастись уже не может, а тогда, когда он живет, и будет жить, и может спастись разными путями и тоже через страдание.
Когда страдает ребенок, и мать не знает, почему он страдает и что с ним будет, сердце ее разрывается от ужаса и жалости. Но когда ребенок подвергается необходимой для его блага операции, мать соглашается на его и свои страдания, и переносит их мужественно, и после выздоровления ребенка скоро и радостно забывает о них. А бывает и то, что отчаянные слезы ребенка вызывают у матери спокойную улыбку: она знает, что для огорчения его нет оснований, и скоро он узнает это, и горе его кончится.
Так с высоты небесной, если существует для нас эта небесная высота, все самые тяжкие наши горести и мучения могут являться ничтожными и мимолетными, ниспосланными нам для нашего же блага.
И если человек найдет в себе силу прибегнуть внутренно к Богу и к всесильной Его помощи, он всегда и неизменно получает утешение и успокоение, – хотя бы и продолжалось то, что причиняет ему страдание.
А бывает среди страданий незаслуженных, с терпением и мужеством переносимых, еще и такие чудесные, драгоценные мгновения, когда в ответ а мольбу, с необычайной силой и ясностью раскрывается перед измученной душою вся истина, все величие высшего, духовного, божественного мира, и ярким огнем разгорается вера, надежда, убеждение, ведение, и человек уже не помнит скорби от радости, и страданий своих не только не страшится, но принимает их с пламенным благодарением Богу, как путь и способ приближения к Нему, к блаженству и чуду высшей степени бытия, – к недоступной человеку иным путем, по грехам его, «почести вышняго звания»…
Раз, только раз за всю долгую жизнь пришлось моей много страдавшей, но – увы! – недостаточно верующей душе ощутить таким образом всю таинственную благость и чудесную спасительность страдания. Но и одной такой минуты довольно было, чтобы на всю жизнь сохранилась во мне память об этом.
Вера в благость и спасительность Промысла Божия смягчает и облегчает страдания наши тоже и в обычные, лишенные особого озарения, часы и дни обычной нашей, серой и низменной жизни. Но если вспомнит человек тот миг озарения, который мог выпасть ему на долю, ему легко понять, почему первые христиане шли на муки и смерть с сияющими от восторга лицами, как с изумлением свидетельствовали о том их гонители, во времена Марка Аврелия, в Лионе, по исследованию историка-рационалиста Ренана.
И тем подтверждается учение подвижников церкви, что все беды и мучения наши, когда мы мятемся, томимся и изнемогаем, происходят от одного нашего несовершенства, от одной лишь слабости нашей веры. Люди призваны исполнять житейские свои обязанности. Они должны как можно лучше устраивать окружающий человека мир и свою совместную временную жизнь в этом мире. Но никакое устройство, никакие учреждения, никакие открытия, изобретения и достижения не спасут человека от страдания, от томления, от боязни. Спасает одна вера в Бога и жизнь вечную. «Не бойся только веруй!» – сказал Христос.
Но почему мы так плохо веруем?
Почему такое множество людей живет без веры и без рассуждения, жизнью чисто животной? Почему эти страдания существ которые не рассуждают, не наблюдают, не делают выводов и ничего, как будто, не могут почерпнуть из самых лютых своих страданий? Почему должны страдать эти бессознательные существа, и маленькие дети, и беззащитные животные?
Мы этого не знаем, не понимаем. Но, веруя в Бога, мы должны верить, что смысл имеет и то, чего мы понять не можем. Зная, что страдание, проникнутое верой, спасительно, мы можем верить в спасительность всякого страдания, – тех, кто верует и назидается, и тех, кто как будто не рассуждает и не назидается. Какой-то тоже и в этом должен быть путь, из числа неисповедимых путей Божиих, – какой-то должен быть план и способ, избранный Высшей Волей, которому мы можем только со смирением покориться.
Ведь каким-то, пока непонятным для ас образом, блаженны «нищие духом» – лишенные духа, бессознательно живущие и, должно быть, страдающие существа. Ведь про них сказано, что «их есть Царствие Божие», и про них это сказано прежде, чем про других, как будто этих нищих прежде всего имел в виду, говоря о будущем блаженстве в нагорной Своей проповеди, Спаситель наш Христос.
Какое-то включение в мировую гармонию всякой жизни, тоже и жизни бессознательной, предвидел смутно и как-то (не помню, как) изобразил в свое учении тоже и один из древних «посвященных» Пифагор.
Тоже и апостол Павел говорит о стенаниях «всей твари» – и что вся она «освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих».
Разум – это рассудок в союзе с чувством. Разумно в глазах наших то, что принимает и рассудок наш, и чувство.
Но если столь многие истины веры, из тех, которые преподаны нам светлым откровением, так поразительно подтверждаются для нас тоже и нашим разумом, мы можем с верой и надеждой принять из рук Божиих тоже и то, что мы пока разумом своим постичь не можем.
Пресня, четв. 6/VI 1929.
Все в воле Божией, и мы иногда представляем себе, что Бог мог бы простить грехи и помиловать грешников без умилостивительной жертвы Сына Своего.
Но как могли бы люди поверить этому прощению, как могли бы они принять его без смущения и богохульного недоумения, как могли бы они надеяться на свое помилование и спасение, – если б не явился в мир и не пострадал за людей Человек Иисус Христос?
Только через Него, узнав Его и учение Его, и великую жертву Его, могли люди постичь всю бездну своей греховности, и кару, ими заслуженную, и милость им оказанную, как данный им пример добра и путь спасения, открывшийся им через Него и ради Него.
Если б не было Христа, и правды Его, и искупительной жертвы Его, для людей возможно было бы только грубое безразличие к добру и злу, или отчаяние и безнадежность перед видимо торжествующим в мире злом.
Ради Человека Христа и только ради Него может быть прощено все человеческое зло; через Него и только через Него добро одержало победу и может в человеке одерживать победу и впредь, и вести к спасению душ человеческих.
Пресня, пятн. 7/VI 1929.
Науки изучают всевозможные области мира и жизни. Души человеческие изучает и знает одна только религия.
——————–
Здравый рассудок говорит нам, что мы никак не можем утверждать, что чего-либо вообще не могло быть. Ведь может быть и, без сомнения, бывает бесконечно много такого, чего ни один человек не видел и не может себе представить. И сколько бы ни было выдумок, в смысле чудес, сколько бы ни было случаев, когда выясняется, что чего-либо нет и было, это не меняет того, что в некоторых случаях подобные же или иные, не менее таинственные и удивительные явления действительно были.
Предсказания и пророческие сны, непонятно и внезапно появляющиеся способности и силы, «ясновидение», «второе зрение», проникновение в мысль другого человека и воздействие на его мысль и волю, видение далекого и давнего, таинственное исцеление болезней и мгновенное восстановление повреждений, – все то, что многим людям известно было по личному опыту ( и в некоторых случаях подтверждалось неоспоримыми историческими документами), еще не так давно презрительно отвергалось людьми науки, как нечто «невозможное», как обман и суеверие. Однако теперь все это уже признается наукой и изучается, как ряд явлений редких и пока необъяснимых, но все же реальных и возможных. И сможет ли или не сможет наука разъяснить механизм и причину этих явлений, обычно называемых чудесами, – это для нас сравнительно неважно, а важно и утешительно то, что перед всем миром подтверждается правдивость свидетелей, которым мы верим и хотим верить, потому что мы от них не только услышали о чудесах, но и получили удовлетворяющий нас ответ на все главные и основные запросы своей души. И ведь, конечно, если необычайны последствия явлений, можно предположить, что необычайны были и самые эти явления, и причины вызвавшие их.
Если бы св.Сергий не мог узнать, что на расстоянии 100 верст проезжает мимо Троицкой обители святой Стефан Пермский и кланяется ему, чего никто другой узнать не мог, он не мог бы стать для России святым Сергием. Есть писатели вроде Анатоля Франса, которые, как сказал кто-то, на место событий невероятных, которые однако же были, стараются поставить события вероятные, которых, однако, не было. Но ведь то, что невероятные события действительно были, достаточно убедительно доказано бывает их последствиями. Если бы Жанна Д´Арк не имела видений и не переживала всего того, чтó сделало ее Жанной Д´Арк, она не могла бы повернуть колесо истории и спасти Францию?
Когда мне случается перечесть Евангелие – все подряд Евангелие хотя бы одного из евангелистов, – явление Христа в нашем мире представляется мне до такой степени исключительным, до того несвойственным нашему миру и явно происшедшим из мира иного, вышнего, что уже нисколько не невероятны чудесные события, сопровождавшие это явление, и странно и неестественно было бы, если бы таких необычайных и чудесных, сопровождавших Его пришествие событий, не было.
Разные отдельные эпизоды могли быть и не быть, они могли быть такие или иные, могли быть переданы в точности или не точно переданы, но все это нисколько не меняет громадного, несоизмеримо важного, чудесного значения Его пришествия в мир.
VI 1929.
Печально и странно бывает видеть, как громадная область религиозного мышления и опыта, наблюдений, выводов, творчества, изысканий и открытий просто совсем не существует для людей, получивших обычное, светское «общее образование», или всецело занятых естественными и прикладными науками. Эта область не отвергнута ими, – она просто им неизвестна, и общие теории атеизма и материализма принимаются ими на веру без всякой критики, в силу привычки и приличия, – чтобы не уронить себя в глазах «образованного» большинства.
10/VI 1929.
Великий христианин XVII в. гениальный математик Паскаль, (как впрочем и многие другие), отмечают на пути духовного преуспеяния два предела: достижение религиозного убеждения и достижение веры – религиозной жизни духа. Он говорит, что последнее дается особым изволением, особой милостью Божией, совсем особым, не подлежащим точному определению, таинственным и непостижимым, но совершенно реальным, ясно ощутимым состоянием духа. Оно может быть временно и постоянно, длительно и мимолетно, сильно и слабо, совершенно и несовершенно. Оно является единой, вожделенной целью религиозных стремлений и порывов человеческого духа, и громадным, ни с чем не сравнимым приобретением и благом. Только тот, конечно, кто сам обладает этим бесценным благом, может помочь другим в приобретении его. Только святые люди могут освящать жизнь и души других.
Но на первой стадии пути, при усвоении известных религиозных убеждений, все люди могут помогать друг другу.
Раскрытие и доказательство религиозных истин и усвоение их требует и размышления и некоторых знаний. Надо хотеть получить их и потрудиться над приобретением их, как надо хотеть и надо трудиться, чтобы получить всякие иные знания, умения и искусства. Тоже и молитве надо научиться, как всему другому.
Москва, вт. 11/VI 1929.
Рассудок мой (но это ведь не разум, или, во всяком случае, малый разум) иногда отвергает, т.е. отбрасывает как нечто чуждое, выдуманное, неприемлемое, мое основное верование в загробную жизнь. Но тот же мой рассудок должен признать, что, уничтожая это основное мое верование, он подрывает и самую суть всей моей жизни, всей силы и высоты человеческого моего духа.
Когда нет во мне веры, я – ничто и ничего не стою. Без веры в мир иной и жизнь духа, помимо жизни тела, мы – только плесень на крошечной планете среди огромного мертвого мира. Существует мнение лиц, занимающихся астрономией, что только на этой нашей крошечной планете живут существа, достигшие сознательности. Все остальное – мертвые механизмы.
Но ведь это прежде всего – представление нелепое, неразумное. Мы не можем представить себе ни конца вселенной, ни ее бесконечности. Как же можем мы верить рассудочным своим представлениям, когда ставим себе еще более общие, еще более основные вопросы?
Мы можем получить ответ на них только совсем иным, не рассудочным путем, – или же вовсе не получаем ответа.
Москва, Пресня. VIII 1929.
Без сдерживающих, мудрых правил религии, наши грехи, заблуждения и слабости вырастают до чудовищных размеров, и мы не видим их, мы по доводам рассудка очень часто еще и считаем себя правыми. Ведь сколько от одной точки можно провести радиусов, столько наш рассудок, предоставленный сам себе, может вывести из каждого положения различных умозаключений, и каждому из них человек может поверить, на каждое может положиться, побуждаемый к тому страстью или желанием оправдать эту страсть.
Без веры зло становится беспредельным, и самое добро обращается в зло.
Без веры любовь становится потворством, а праведный гнев – неправедным; без веры крепость становится слабостью, а смирение – унынием и унижением.
Религия не только готовит к смерти (а ведь к смерти все мы всегда должны быть готовы), она прежде всего учит нас жить, и ничто житейское ей не чуждо. Религия с нами, когда мы едим и пьем, сеем и строим, покупаем и продаем, женимся и выходим замуж. Она благословляет и рождение, и смерть, брак и девство, труд и веселье, искусство, науки, государство, управление, войско, суд, борьбу и перевороты. Но все это должно и может быть не языческое, не безбожное, а божеское и христианское. И только будучи божеским и христианским, все это становится тем, чем должно быть.
Христианин может смиряться до последней степени перед Богом Христом, от Которого все получил, и перед святыми, которые во всем его превзошли, и даже перед последними из ближних своих, которым могло не быть дано и не быть открыто то, что было дано и открыто ему. И все же он не будет унижен и не будет унывать, потому что ему дана бессмертная душа, и, при всех грехах его, указан путь спасения. Христианин должен ясно видеть свою слабость и свое ничтожество, – и все же не должен бездействовать, потому что и на него, ничтожного и слабого, возложена великая обязанность христианского делания.
Человек до конца смиряется, и все же ему доступны все восторги, все одушевление могущества и силы, в сознании им своего достоинства, своего первенства, своего высшего назначения.
Христианин может любить людей, и жалеть, и прощать их до бесконечности, и все же, помня о божественном совершенстве и о высоком призвании человека, не будет ни потворствовать злу, ни уступать ему, ни забывать о нем, ни смешивать его с добром, как человек, безразлично относящийся к тому и другому. Любя даже и злого, виновного и преступного, христианин может тем более ненавидеть зло и преступление, губящие виновного. Он может простить всякую нанесенную ему обиду, но не допустит никакого посягательства на самое начало добра и правды. Он может отказаться от всех своих прав, – но не откажется и от самой малейшей из своих обязанностей.
Вопреки установившемуся безбожному обычаю безбрачия без целомудрия и брака без детей, религия требует, чтобы брак создавал семью и детей, а безбрачие было целомудренно и давало свободу для иного доброго делания.
И все учение христианское, обнимая собою и смирение, и сознание человеком своего достоинства, кротость с злыми и негодование на зло, покорность судьбе и борьбу с неправдой, благо семьи и благо целомудрия, направлено к тому, чтобы всякий человек, при всех условиях и всяких обстоятельствах, мог приобрести самое главное доступное человеку благо, т.е. стремиться к «почести вышняго звания Божия во Христе Иисусе» (Филип. 3, 14).
18/VI 1929.
(16/VIII 1920 г., в тюрьме, в Харькове). Человек убежден не в том, что подтверждается в его глазах тем или иным обстоятельством, а в том, что подтверждается для него всем… Все подтверждает для меня истины веры: скорбь и немощь, успокоение и укрепление сил, – все, что я переживаю и замечаю в себе и вокруг себя. Любуюсь красотою дня и думаю: не могло бы быть этой тленной и преходящей, и все же возвышающей душу красоты, и для чего была бы она, если бы не было красоты нетленной, вечной, не материи только, но и духа? И к чему была бы любовь, эта наша горячая, трепетная, забывающая себя любовь, – к Богу, к человечеству, к отечеству, к близким дорогим людям, если б любви этой суждено было исчезнуть со смертью любящего или стать бесцельным, бессильным терзанием со смертью любимых? Так же верно, как сияет солнце и веет ветерок там, на воле, – так же верно и то, что есть в мире правда и смысл, есть жизнь будущая, Бог всемогущий и души бессмертные. И какое сокровище – наша церковь и все ее верования. Как драгоценно это почитание святых, тех, кто веровал и верою спасался! Какие примеры! Какая помощь нам, слабым и грешным!
——————-
(В тюрьме, 9/IX 1920 г.) Как хороши наши молитвы! Все эти последние потрясающие события раскрывают в них новый и потрясающий смысл. «Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу!», – «И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого»… До революции и торжества социалистических идей я плохо представляла себе, чтó это значит… А еще, этот ужасный, грязный мир – и над ним Она, Пречистая, и все святые: какое утешение, какое блаженство! Мы не достойны этого рая святости, чистоты и блага. Но есть надежды на милость Божию, на искупление драгоценной кровью Христа Спасителя. Все становится так ясно, так сильно, так бесспорно в своей неопровержимой истине. Да, со святыми упокой, Господи, тех, кого мы любим. Святые несравненно лучше всего того, что есть на свете, и не могла быть тщетной вера их …
——————
(В тюрьме, в Харькове, 18/IX 1920) . Когда жизнь очень была полна, я не понимала, как можно иметь пристрастие к таким ничтожным вещам, как пища и питье?.. Теперь я понимаю, почему наша церковь предостерегает нас от пристрастия к ним. В жизни скудной – это большой соблазн…
– Когда как-то очень было тяжело, я вечером в постели помолилась: Господи, возьми меня! И заснула. Неужели такова будет и смерть? Как хорошо!
В словах и действиях нашей церкви поражает предвидение небывалого. Какие все веские, пророческие слова! «Воздаждь мне радость спасения Твоего!». Да, Твоего спасения; другого ведь нет, другое так ненадежно! И еще: Духом Владычным утверди меня! Да, ничто другое не может утвердить нас, кроме духа Божия. Как все это стало явно, как несомненно!
– Одно из возражений против учения церкви, что она требует «подавления плоти». Но если вообще возможно подавление плоти, это ведь значит, что существует и нечто кроме плоти. Что и требуется доказать.
В гл.18 от Мф. Говорится о детях, – а потом говорится о «малых сих», и что мы не должны презирать их, так как Сын Человеческий «пришел взыскать и спасти погибшее». Это сказано не про детей, конечно, а про иного рода «малых сих». Это сказано, чтобы нам всегда помнить о несравненной ценности всех бессмертных душ, как бы ни казались они нам малы и ничтожны.
Москва, Пресня, 22/VII 1929.
По учению церкви, бессмертие есть бессмертие сознательной личности, и только такое бессмертие удовлетворяет наше сознание, – а не бессмертие безличной, не помнящей себя духовной стихии, о которой говорят современные проповедники индуизма и буддизма.
В Арзамасе не цари, не князья и бояре, а купечество – люди из народа, разбогатевшие в силу личной своей энергии, в знак покаяния в грехах и идеальных стремлений сильного и здорового своего духа, строили церкви, и построили их 35 в одном небольшом, захолустном, уездном городе! Теперь их ломают, – в силу чего? И как понимать это?
Говорят, пение в церквах, полумрак и дым кадил рассчитаны на потемнение сознания, будто бы нужное для усиления религиозных чувств. Так. Но когда сознание все поглощено делами и вопросами житейскими, надо, может быть, слегка приглушить его, чтобы ожили чувства и усилилась впечатлительность и восприимчивость для истин иного рода. Когда же сознание уже твердо хранит в себе эти основные, религиозные истины, тогда нужно, конечно, не потемнение его, а только освобождение его от пут и суеты, только прояснение, необходимое, чтобы и чувства тоже усиливались и прояснялись. И тогда такое именно действие имеет и красота богослужения, и красота природы. Простор и даль полей, леса и воды, солнце днем и звездное небо ночью, – все заставляет наше сознание пробуждаться и работать с удвоенной силой, и все оживляет, вместе с тем, наше молитвенное, благоговейное настроение и чувство.
Мы видим ясно дивную мудрость и красоту мироздания. Как же может быть бессмыслицей, и столь жестокой бессмыслицей, судьба и жизнь человека, входящего в мир, как часть в целое, и, вместе с тем, видящего мир, сознающего, наблюдающего, изучающего все и ищущего смысла во всем, ищущего во всем высшей, вечной, духовной красоты и правды?… Нет, жизнь души, каждой сознающей себя души, должна быть устроена также мудро и прекрасно, как и течение светил небесных, и действие электричества, и жизнь растений…
——————–
VIII 1929. Как ни смутны общие понятия человека, как ни трудно ему бывает провести точную границу между различными категориями понятий и всякое явление отнести к той или иной категории, все же некоторые отвлеченные понятия неискоренимы в его сознании. Так, совершенно бесспорно ощущается им понятие о добре и зле, и противоположность их друг другу, и гибельность одного, и спасительность другого. Как для телесной жизни человека гибельны или спасительны те или иные силы природы и собственные его поступки, так гибельны или спасительны для него (он это сознает и чувствует, если имеет глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать) многие его стремления, представления и убеждения. И подтверждением истинности многих человеческих понятий и представлений служит еще и то, что они его спасают и поддерживают, а доказательством ложности многих других представлений и понятий служит то, что они ведут его к падению и гибели.
Вера в Бога, в бессмертие души, в божественный закон – и отрицание Бога, бессмертия души и законов, Богом установленных, имеют действие прямо противоположное в области всех переживаний, привычек и поступков человеческих.