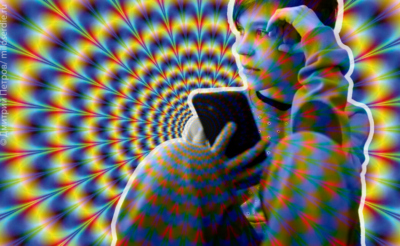И здесь сестрам очень много дела: они перевязывают во всех госпиталях, а госпиталя помещаются во всех домах несколько больше прочих. А когда приходит транспорт (и это бывает довольно часто), они тоже приходят на перевязку; тут я познакомилась и с их старшей сестрой. Кажется, она хорошая женщина, и прекрасно исполняет свой долг, но в ее тоне и с больными, и с здоровыми есть неприятная резкость; она входит в палату и громко говорит: «Здорово, ребята!» И часто, по привычке, те отвечают: «Здравия желаем вашему благородию!» И смешно, и досадно!
Мы пошли к сестрам, и я со старшей сестрой пошла по всем госпиталям. А после обеда мы зашли к Озерецковским; это очень милое и приветливое семейство, а их хорошенькая дача, с деревьями, зелеными кустарниками, – настоящий оазис в этой солончатой местности. Ночевать мы вернулись в нашу казарму, и 28 сентября, рано утром, выехали обратно в Симферополь.
Нам предстояло скучное путешествие – ехать на измученных лошадях 130 верст, и во всю дорогу – только одни небольшие станционные домики.
На первой станции мы покормили лошадей, и в 10 часов вечера приехали на ночлег; но на станции не только не было свободной комнаты, где бы переночевать, но даже и такой, где бы напиться чаю. На наше счастье, два офицера предложили нам для этого свою комнату, а я провела ночь в тарантасе, и едва только рассвело, наш Алексей запряг своих коней, и мы, полусонные, поехали в Айбары, где пили чай и обедали, хоть и очень плохо, а все же обед.
В Трехоблом мы прибыли рано, а так как мы ехали на своих и не имели подорожной, то смотритель не хотел нас пустить ночевать на станцию; но я ему объявила, что кто едет по казенной надобности, тот имеет право останавливаться в казенном доме. Он стал просить хоть какой-нибудь бумаги, а я ему возразила, что довольно взглянуть на наши платья и кресты, чтобы убедиться в нашем праве, прошла мимо него, села на диван, и больше нас никто не беспокоил. Мы сами поднялись в четыре часа утра и остановились покормить лошадей в корчме близ Салгира. От нечего делать и чтобы сократить время, мы гуляли по степи, которая была вся покрыта, точно лиловым ковром цветами, а в два часа приехали в Симферополь. Тотчас же я пошла к Екатерине Александровне Хитрово, и с ней вместе вечером к Николаю Ивановичу Пирогову, где увидала Елизавету Петровну Карцеву. О ней я не буду говорить: она слишком хорошо известна и теперь, как самая отличная сестра, и в Крестовоздвиженской, и в Георгиевской общинах. Она произвела на меня очень приятное впечатление. Елизавета Петровна очень встревожена была всем, что здесь происходило. Все, и довольные, и недовольные прежним управлением, были в каком-то трагикомическом смятении, все перешептывались. А. П. Стахович говорит, что она уходит, а тут же распускают слух, что она получила письмо из Петербурга, где ее умоляют оставаться.
Да и во всем другом сплетням и слухам несть конца. Вот, например, я еду в Перекоп, а мне говорят, что там француз; еду обратно, опять говорят, что он на такой-то станции. А приехала на станцию – говорят, что тут нигде никого нет, а француз – за семь верст от Бахчисарая, где церковь св. Анастасии. А бахчисарайские сестры туда ходили на богомолье, и там решительно все спокойно.
Мне пришлось написать Николаю Ивановичу отчет о транспорте и свои замечания. Меня это очень затрудняло. Исписала целый лист кругом. Что было написано, совершенно не помню: не то отчет, не то журнал, не то замечания.
Зная, что я должна Николаю Ивановичу докладывать, я еще в дороге кое-что записывала. Были тут и возгласы вроде того: «Мало людей настолько добросовестных, чтобы исполнять свой долг в виду только Бога и степи!» Были также замечания и о сестрах, которые истинно и много трудятся.
В Симферополе оказалось очень много госпиталей: все присутственные дома, все большие здания, Благородное собрание, гимназия, дом казенной палаты – все занято, а Присутствие – в доме председателя Владислава Максимовича Княжевича. Он мой давнишний знакомый, и был очень внимателен ко мне, да и во всех сестрах принимал большое участие.
Всегда буду вспоминать с большой благодарностью, что он, несмотря на все хлопоты и тревоги того времени, как только узнал, что все сестры благополучно вышли из Севастополя, сейчас написал к моей сестре и успокоил ее гораздо раньше, чем она могла получить мое письмо.
Приведу здесь стихи моей сестры, написанные ею в карете, когда она получила о нас известие и ехала на Каменный остров. Она тогда жила в Петербурге и часто гостила у великой княгини Елены Павловны, то на Каменном, то в Ораниенбауме.
Стихи эти так и остались не отправленными, и я их прочла только тогда, когда вернулась в Москву. Да, тяжело ужасно было тем, у кого были тогда в Крыму родные!
Ты в каждый миг и дня и ночи
В моей душе, в моих мечтах!
В незримый край вперяю очи,
Живу не здесь, а в тех местах,
Где ты на поприще страданья.
Молюсь, страдая и любя,
Но в сердце грустном упованье:
Господень крест хранит тебя!
Полна тревогою разлуки,
Не замечаю, что кругом;
Внимая песен сладких звуки,
В душе я слышу пушек гром.
И отчужденная душою –
Молюсь, страдая и любя,
Твержу, борясь с моей тоскою:
Господень крест хранит тебя!
Вокруг меня сады, аллеи,
Краса цветущая дворцов,
Но все мне видятся траншеи
И раны страшные, и кровь…
Смыкая, открывая вежды,
Молюсь, страдая и любя.
Но в сердце луч святой надежды:
Господень крест хранит тебя!
О, счастья радостные вести!
Тебя Господь нам сохранил.
И верю я: мы будем вместе,
Велик Господь щедрот и сил!
Благодарю всем сердцем Бога,
Молюсь, блаженствуя, любя;
В душе спокойной веры много
В Господень крест: он спас тебя!
1855 года, 8 сентября.
Продолжаю о госпиталях. Итак, их было много. Во всех были помещены сердобольные из Петербурга и Москвы; я слышала, что их было 80; многие из них хворали, и даже говорили, что 20 умерло, что выходит очень много, и гораздо больше, чем умерло сестер. Может быть, это и оттого, что сестры были моложе, и обставлены были удобнее; сестры ходили дежурить, проводили в госпиталях сутки и возвращались отдыхать в общину, а главное – имели готовое содержание от общины; а сердобольные жили по две и по одной при госпитале, получали деньги на пищу и должны были сами хлопотать о своем содержании; иные и не умели, и не хотели этим заняться; другие экономничали, желая сберечь деньги, и все это дурно влияло на их здоровье.
Кстати, вспомню очень странную память сумасшедшего и одно очень странное совпадение.
Из всех сердобольных знала я только одну, которая жила прежде у моей тетушки, а потом поступила во вдовий дом, и была уже сердобольной, когда стали им предлагать ехать в Крым. Она прибежала ко мне спрашивать совета; я, разумеется, советовала ехать, так как тогда только и думала, как попасть туда. В ее госпитале было отделение для сумасшедших; вдруг она получает от одного из больных записку, в которой он просит у нее чаю, а Екатерина Михайловна Бакунина ей после отдаст; она сейчас пошла к нему, и он ей рассказал, где меня видел, и дал письмо ко мне. Но она только тогда убедилась, что я точно в Крыму, когда я сама пришла к ней.
Я тоже ходила несколько раз и к больному юнкеру, что лежал прежде с моим крестником. Он был всегда очень рад, когда я к нему приходила. Он, слава Богу, совсем поправился. Этим госпиталем одно время заведовал наш доктор Тарасов, который и остался доктором общины и много трудился и сочувствовал устройству и успеху ее. Моей знакомой сердобольной, Клеопатрой Александровной Мальвиной, он был очень доволен.
В конце сентября или начале октября сестры поступили в бараки, которые стали наполняться больными. Обязанности старшей сестры исполняла Е. П. Карцева, а сестры ездили туда на суточные дежурства. Сестер в эту минуту было много, но многие из них собирались уехать, так как срок их кончался: 1-е и 2-е отделение поступили в ноябре. Я же, когда была в Симферополе, оставалась в странноприимном доме Таранова, где находились и больные сестры. Опять появился у нас тиф.
Мне говорили, да и самой мне казалось, что тот транспорт, который мы провожали, был устроен лучше, чем другие, так как знали, что Николай Иванович посылает сестер с транспортом.
Я предложила Николаю Ивановичу поехать на первый этап неожиданно, чтобы посмотреть, что там делается. И вот, узнав, что вечером ушел транспорт, я на заре велела заложить тройку в телегу, и с сестрой Антиповой поехала в аул Сарабуз, первый этап больных, прямо к раздаче говядины и обеда; мы хлопотали, чтобы все были накормлены, помогли перевязке, указали на глупое распоряжение, а именно: тяжело раненые были помещены далеко от кухни, – подбили доктора побранить фельдшера, а доктор просил меня побранить офицера; раздали табак (белье на этот раз было хорошо); но транспорт был устроен гораздо хуже, чем тот, который мы провожали; у нас был доктор, очень расторопный офицер, два фельдшера и 500 больных на 130 подводах, да еще 9 подвод для тяжестей; в этом же транспорте на 130 подводах были и тяжести, и 600 человек, лекарь, один фельдшер и какой-то вялый офицер. К четырем часам мы были дома.
Опять я скоро собралась провожать транспорт и опять только до Перекопа; дальше Николай Иванович не позволял; он находил, что возвращение затруднительно, и хотел, чтобы сестры, которые совсем уезжают, провожали транспорт и, доведя его до места, продолжали бы свой путь дальше; но это не уладилось. Кажется, сестры не соглашались, а может быть, и что другое помешало, – наверное не знаю. Знаю только, что еще до Перекопа один раз четыре сестры (за старшую была А. М. Медведева) провожали транспорт и вернулись в Симферополь.
9 октября Николай Иванович Пирогов прислал мне сказать, что транспорт готов и выступает, но опять только до Перекопа мы должны провожать его и остаться там несколько дней, чтобы хорошенько посмотреть, что там делается. Я сейчас послала сказать, чтобы мне приготовили лошадей.
Еще когда сестры были на Бельбеке, туда великая княгиня велела прислать лошадей из своего имения, Полтавской губернии, Карловки, но вдруг я узнаю, что их куда-то услали. Так было это досадно, и мы только в пять часов могли выехать. И что же? Транспорт на лошадях, а все еще стоит у заставы. Но мне сказали, что есть передовые на волах; наконец мы поехали вперед, перегнали еще три подводы. Из одной привстал полупьяный унтер-офицер и, глядя на нас, сказал: «Никак милосердные! Значит, надо ехать скорей готовить ужин!»
Однако мы приехали прежде него.
Тихо в ауле Сарабуз. Ночь чудная; луна так и блещет, так и сверкает в струйках Салгира, который извивается по аулу. Но нельзя было, однако, восхищаться красотой ночи, особливо старшей сестре, и оставить сестер проводить ее под открытым небом. Наша прежняя квартира занята; я велю позвать десятского татарина и приказываю ему отыскать нам квартиру. Он сейчас же это и сделал. Мы раскладываемся, хлопочем с самоваром. Со мною опять те же сестры, что ехали и в первый раз. Часа через два приехали и наши больные. Все подводы конные; раненых 105, а больных 380.
Молчаливый аул оживился; подводчики развели яркие огни (бурьян горит каким-то белым пламенем, вроде бенгальского огня), и они, и некоторые больные собрались вокруг огней, и слышен не полусонный и монотонный разговор чумака, который только чумакует за солью через Перекоп или Чангарский мост – тут иной рассказывает про неметчину, потому что ходил туда с товаром, а другой говорит, что был за Дунаем, и в Тамани, и в Сибири – не далеко, ходил только до Томской области.
Доктор у нас – студент из Харькова, очень вялый, а офицер очень проворный (и, к моей великой радости, распорядился переменить солому у больных), два фельдшера, но перевязки мало, всего 50 с чем-то человек; есть из них 28 ампутированных, но в очень хорошем состоянии.
В Экибаш мы приехали благополучно и оттуда вовремя выехали. Едем себе по нашей однообразной степи, но вдруг на горизонте что-то блестит, то в той, то в другой стороне. Наконец, видим, что это войско, а там вдали у аула еще больше, а ближе к нам стоят по два солдата, не в дальнем расстоянии друг от друга.
Мы ехали впереди всего транспорта. Нам кричат: «Стой!» – «Что это?» – «Цепь…» – «Как, зачем?» Подхожу к гренадеру (а его товарищ пошел за офицером) и спрашиваю, что они тут делают. Он отвечает мне, смеясь:
– Говорят, что француз тут шляется, так мы его и стережем!
Пришел офицер и говорит, что их сегодня только сюда привели и велели быть наготове, но это только предосторожность. Нас пропустили, и опять мы не видим ничего воинственного, а только табуны немного оживляют голую степь.
Главные наши хлопоты на ночлеге состоят теперь в том, что мы по утрам поим иных больных чаем, а других кофеем. Чайник, в котором варится кофе, кое-как разогревается на кизяке, а для самовара возим уголья; но они так истерлись, что годятся для зубного порошка, а не для самовара. И вот, под большим колпаком, сделанным из плетня и глины, который трубой выходит кверху, мы, сидя на глиняном полу, варим кофе. Татарин, татарчонок лет десяти, еще две татарки, одна с грудным ребенком на руках, и прехорошенькая татарочка лет пяти, моя большая приятельница, хлопочут, чтобы развести самовар лучинами. Татарин режет их, а девочка подает, а я, с Монтандоном в руках (путеводителем по Крыму), разговариваю с татарином, спрашиваю, скоро ли у него будет марушка (жена). Он отвечает, что хочет марушку в 100 карбованцев (серебряный рубль), а про татарок, что с нами сидят, жен его братьев, говорит, что одна стоила один карбованец, а другая – 50. Все хохочут над моим татарским языком. Потом пришли еще шесть татарок, и были очень довольны, когда я им раздала булавок. Мы в этой сакле большие приятели; старик хозяин, провожая нас, кричит: «Твой у моя!» А я отвечаю: «Якши!»
В Перекоп приехали довольно рано, как и всегда, на шестой день. Я ехала с той мыслью, что эту ночь больным нашим покойно будет в госпитале, по когда вошла туда, была ужасно неприятно поражена: там уже лежит 500 больных; только что пришедший из Польши гренадерский корпус очень страдает от тифа. Иные говорят, что они с собой принесли болезнь; другие – что им очень неудобно, нет для них никакого жилья, даже говорят, что нет палаток!
И опять было распоряжение поместить только раненых в госпиталь, а всех больных – в палатки. Хорошо еще, что это большие госпитальные палатки на сукне, и в них было довольно тепло. Мы поехали ночевать к сестрам. Я, по желанию Николая Ивановича, осталась в Перекопе на несколько дней; ходила целые дни из госпиталя в госпиталь, записывала, замечала, чтобы все передать ему. Иногда вечером, чтобы вздохнуть свежим воздухом, ходила к Озерецковским, и вполне отдыхала от шума, криков, брани, стонов, слушая прекрасное пение жены сына Озерецковского, у которой великолепный контральто.
Я удивлялась, как ко всему можно привыкнуть: когда я пожила несколько дней в Перекопе, где вода соленая, то после другая вода мне казалась нехороша и слишком пресна.
20-го мы вернулись в Симферополь, и как только я приехала, пошла к Николаю Ивановичу отдать ему отчет о транспорте и о перекопском госпитале.
В общине я нашла большие перемены. А. П. Стахович под конец все бросила, и у нас было настоящее междуцарствие; в субботу она уехала, а с ней, за исключением только четверых, и все 1-е отделение. Я ходила к ней прощаться. Признаюсь, что мне не хотелось, но Николай Иванович говорил, что надо. Я ему отвечала, что, прощаясь, надо что-нибудь сказать, а я не могу.
– Ну и не говорите, а все-таки идите прощаться.
Я и пошла. Разумеется, прощанье было самое холодное. В воскресенье, в доме, где жили сестры, был молебен с водосвятием, и после молебна Николай Иванович представил нам Екатерину Александровну Хитрово, как старейшую сестру, заменяющую начальницу, причем сказал, что все важные дела должны решаться сестрой-начальницей с старшими сестрами, им самим и священником. Он надеется, что все пойдет хорошо, что и сестры поймут святую обязанность, которую взяли на себя.
Екатерина Александровна перебила его речь, заметив, что она только временно будет в нашей общине; она и оставалась всегда в одеянии одесской общины. В Тарановском доме, где в это время был госпиталь сестер, у нас опять были тифозные из тех, что не были больны в Севастополе; иные были в очень трудном положении, но поправлялись; умерла только одна сестра, и то по своей неосторожности.
27-го ждали государя. Целый день суета страшная, скачут верхом, бегут пешком, едут в экипажах. Бульвар вокруг собора наполнен народом; священники в соборе с утра. Все улицы освещены плошками; на обнаженных деревьях альянтуса и белой акации качаются от сильного ветра разноцветные фонари, повешенные без всякого порядка, и низко, и высоко.
С нашего балкона был очень хороший эффект. Теперь здесь все дома заняты для генералов, да и без приезда государя Симферополь совсем не тот мирный и тихий городок, каким я его знала в 1850 году. Дома все переполнены, правда, большею частью больными или бежавшими из Севастополя и других городов. Видишь и нарядных дам, но мужская половина населения напоминает госпиталь: или без руки, или без ноги, с подвязанной рукой, с завязанной головой или изнуренные болезнью.
На улицах до того тесно, что пройти нельзя; всевозможные телеги, великороссийские, малороссийские, новороссийские, всевозможные татарские, от самой длинной маджары до двухколесной арбы, и немецкие фуры, покрытые холстом, все это заложено худыми лошадьми, косматыми верблюдами и всех возможных цветов и роста волами.
И все это до того загромождает улицы, что не знаешь, как и пройти…
Одним словом, в 50-м году в Симферополе было 13 тысяч жителей, а теперь – 60 тысяч.
В 10-м часу кто-то закричал «Едет государь!» Одни кинулись к окошкам, иные к воротам. А потом сказали, что это не государь; но народ долго стоял, и иллюминация долго горела. Государь приехал очень поздно.
Это время я проводила очень уединенно; в госпитали не ходила, а это для меня было единственное рассеяние: боялась, что сестры или сердобольные будут на меня коситься и подумают, что я теперь хожу, чтобы встретить где-нибудь государя. К Николаю Ивановичу тоже не хожу без дела: меня мучила мысль, что, наконец, ему так надоедят сестры и разговоры о сестрах, что он махнет рукой на общину.
Я задумала опять поехать с транспортом и пошла в главный госпиталь, откуда они отправляются, узнать – будет ли транспорт. Там никто ничего не знал. Тогда я пошла отыскивать генерала Остроградского. Я не помню его официального титула, но знаю, что он заведовал госпиталями. Он был добрый человек – сам, бывало, таскает койки – славный был бы фельдфебель, но не распорядитель! Я отыскала его, наконец, в правлении. Стала ему говорить о том, что делается в Перекопе, какие были перемены, а он мне отвечает совершенно равнодушно: «А я этого не знаю». Меня это совершенно взорвало, и я говорю ему: «Да ведь вы там начальник?» – «Как же, начальник!» – «Я имела убеждение, что начальники должны знать, что у них делается», – и еще много ему наговорила, и сказала, что сейчас иду к Николаю Ивановичу. А Остроградский был так любезен, что проводил меня на крыльцо, и скоро сам пошел к Николаю Ивановичу, к которому я пришла раньше, чтобы спросить у него, не угодно ли ему, чтобы я ехала на другой день в транспорт. Он мне сказал, что ему было бы очень угодно, да решусь ли я сама, так как холодно, а ехать надо уже не до Перекопа, а до Берислава. Я, разумеется, решилась. Погода была ветреная, но довольно теплая, а главное – было сухо. Я только боялась грязи для лошадей, так как тарантас тяжел, и очень была рада, что Остроградский пришел к Николаю Ивановичу, так как при этом последнем я могла от него добиться, чтобы все больные были в суконных нижних платьях, а то они, несмотря на холод, все еще в холстинных. Было еще ужасное распоряжение: когда транспорт отправляли из Симферополя, то на всякую подводу давали только по два полушубка, хотя больных было по четыре на подводе! Но что еще хуже – когда больные продолжали дальше свой путь в Россию, где холоднее, полушубки отбирались и отправлялись обратно в Симферополь!
Тем же порядком мы проехали пять ночлегов, но на место Перекопа наш транспорт был остановлен в Армянском Базаре – пять верст не доезжая до Перекопа. Больные кое-как были размещены по нетопленым домам, и городничий объявил, что для сестер нет квартиры, но унтер-офицер распорядился иначе, и нам отвели хорошенький армянский домик – чисто, тепло. Одно было грустно и тяжело: больным нет ужина, а за неимением котлов мы не могли напоить их ни кофеем, ни чаем; одним небольшим самоваром не напоишь двухсот человек.
Утром я поехала в Перекоп в контору хлопотать, чтобы больным прислали водки и устроили обед; видела там и коменданта; а потом явилась прямо к генералу Богушевскому; спросить, когда пойдет транспорт, и хлопотать, чтобы оставили полушубки и покрышки на телегах. Сначала он был очень нелюбезен, но потом, когда пришла его жена и, узнав, кто я, сказала, что знает все мое семейство, и тогда оба стали очень любезны. Она говорила, что ее сестра ей писала, что я тут, и она очень желала меня видеть. Я была очень рада, что, могла подробно ему рассказать о несчастном положении транспорта в Армянском Базаре. Они могут сказать в извинение то, что на место 2000 человек, которых они могли бы поместить, у них 5000! Но я все надеялась, что хоть что-нибудь да сделают, хоть котлы и солома будут.
Купив все, что нужно для продолжения нашего пути и нам, и лошадям, мы поехали обедать к сестрам, и, совсем приготовившись, ждали, когда мимо нас пойдет транспорт, чтобы присоединиться к нему. Выехали мы только в половине шестого; совсем уже смеркалось, только новый месяц едва светил сквозь густые тучи, а потом стало совершенно темно. Мы тащились нога за ногу – переход 27 верст – и приехали во втором часу ночи. Разумеется, тут не до ужина.
Только утром огляделись, где мы находимся. Большое село Чаплинка, 300 домов, малороссийские чистенькие беленькие хатки, просторно, широкие лавки. Больные очень довольны, что они в христианских домах, да и хозяева дают им и то, и другое; разговаривать можно; печки теплые, солома есть.
Если не было ужина, зато обед рано готов, порции говядины большие, водка хорошая; но мы все-таки поили их чаем, кофеем, а тех, которые слабы, – красным вином. Хотя все это делается в одно время, но есть такие проворные молодцы, что успевают всего напиться, да еще подвернуться, когда я раздаю крестики да рубашки. А мы очень смотрим, чтобы два раза не поить одного, хотя наш транспорт и небольшой, но все же 370 человек – ведь это целая деревня.
Выехали мы в час и только в девять часов вечера доехали до Малой Маячки, которая совсем не малое, а большое село. Я утром походила по хатам, чтобы посмотреть наших больных. Они очень рады, что имеют от хозяев посуду, из кухни приносят обед на квартиру и они садятся вокруг стола.
В этот день мы рано приехали на ночлег в Чернавку, 9-й этап от Симферополя. До Берислава переход был небольшой, но по пескам, и мы с большим трудом тащились. Все больные, которые могли только идти, шли пешком, из жалости к лошадям, который едва передвигали ноги. И вот мы еле-еле подвигались под туманом и снежком, так что и небо, и земля, и вода, и деревья, и люди – все было серо, все в одном тоне.
Но, слава Богу, довольно рано мы достигли Берислава. Там, на другое утро, могли напоить всех больных в последний раз чаем. Чай пожертвовал дистанционный офицер, и нам приготовили два котла и ведро кипятку.
Мы спешили выехать обратно, чтобы еще засветло проехать пески, и при луне, но тоже под облаками и туманом, доехали ночевать в Черную Долину, а на другой день вечером добрались до Перекопа, где пробыли еще один день; я обошла все госпитали и пустилась в Симферополь.
Когда я вернулась из Берислава, то нашла все приготовленным для меня уже не в Тарановской богадельне, а в доме общины, в одной комнате с Е. А. Хитрово. Нас разделяют ширмы, и у меня, и у нее по окошку, стол, этажерка, три кресла. Это такая роскошь, от которой мы давно отвыкли. Я могла быть одна и писать письма не под несмолкаемый говор сестер! А писать было надо. Помню, как было мне затруднительно объявить сестре, что я не вернусь в годовой срок и останусь еще.
В ноябре кончался срок и 2-го отделения. Из первого осталось очень немного, да и из 2-го не больше: были и прежде уехавшие из него, и по нездоровью, и по другим причинам.
Срок нашего 3-го отделения кончался 10-го декабря. И я, и сестры моего отделения почти уже собирались уехать.
Хотя я очень привязалась к общине и к нашему делу, но как обмануть ожидания сестры, которая считает дни до моего возвращения!
В это время Николай Иванович совершенно предался занятиям по устройству общины, устройству службы сестер в бараках и всего, что касалось общины. Я помню, как я пришла спрашивать у него, что он желает – чтобы я шла дежурить в бараки или опять ехала с транспортом? Он мне сказал, что очень рад, что я пришла, и что ему надо со мной переговорить. И тут же прочитал все изменения и перемены и всю реорганизацию, которую он хочет сделать. И долго, долго мы с ним говорили, а когда пришла Екатерина Александровна, то они опять (так как об этом было говорено уже несколько раз) принялись приступать ко мне вдвоем, говоря, что они на меня надеются, что невозможно в эту минуту оставить общину. Я возражала и то, и другое, говорила, что я не нахожу себя способной им содействовать. Тут Николай Иванович сказал мне:
– Что же вы хотите, чтобы я вас в глаза хвалил?
– Что вы это говорите!.. – И я обещалась не уезжать в. срок, если мое присутствие полезно, но не связывала себя никакими обетами.
Трудно было приняться за письмо к сестре. Письмо было очень длинно; много, много разговоров и рассуждений было в нем написано…
Так как бараки были наполнены больными, то дела у нас тогда было много. В них скромно начали так блестяще потом пройденную карьеру Сергей Петрович Боткин, как доктор, и Елизавета Петровна Карцева, как сестра милосердия. В общине все это время Екатерина Александровна и Николай Иванович много хлопотали о том, чтобы ввести разные перемены, но как-то это плохо принималось. И вот было у нас раз совещание: Николай Иванович, Екатерина Александровна, сестра Карцева, священник отец Арсений и я. Много толковали об устройстве общины, а потом был суд над сестрою за один проступок. Позвали обвиняемую и еще пять сестер. Им предложили решить: сделать ли провинившейся только выговор или записать в протокол. Подавали голоса, разумеется, как водится, начиная с меньшой. Ей был только сделан выговор по просьбе сестер, да и, по правде, это так и следовало. Я думаю, что она по своей простоте и не понимала, что сделала. Но я вспомнила об этом потому, что сестрам такой суд не понравился, и я напрасно долго, долго толковала им, что так гораздо лучше, гораздо правильнее, чем зависеть от одной, которая скорее может быть несправедлива, может иметь досаду или быть особенно нерасположенной к провинившейся. Но сколько я ни говорила до потери голоса, все было впустую, и я никого не убедила… Почти все предпочитали во всяком деле деспотическое управление одной, хотя бы с капризами и несправедливое, общему участию многих. Да, много надо времени, чтобы все устроилось, как следует! Я с сестрами дежурила в бараках; но вот на одном дежурстве получила записку от Тарасова, что Николай Иванович желает, чтобы я догнала транспорт, который уже выехал, потому что там много ампутированных. Было мне это очень не по сердцу: ехать с транспортом еще ничего, но догонять… Да и выехать я сейчас не могла: надо, было справить теплую одежду для сестер, добыть форейтора и пару лошадей, чтобы ехать пятериком – грязь невылазная.
Только 22 ноября, утром, мы могли выехать. И всегда довольно безобразный экипаж и упряжь на этот раз были еще безобразнее; у нас же внутри тарантаса уложены рубашки, чулки, рукавицы, самовар, чайники и пр. Со мной на этот раз едут только две сестры. Путь дальний. Если мы догоним транспорт, то поедем с ним до Екатеринослава; это 460 верст; а так как мы не будем ехать прямой дорогой, а по деревням, то выйдет и больше. В тарантас заложено пять лошадей, три из Карловки и кучер оттуда же, хохол Осип Бирюк, в своей свитке, и форейтор на фурштадтских лошадях, в военной шинели и фуражке, с ужасно глупым лицом, неуклюжий и плохо управлявший лошадьми: а сзади тарантаса – мешки с угольями, щепками, овсом, и над всем этим еще огромный пук сена с бурьяном! – да и может ли быть иначе, ведь сено казенное!
Погода серая, мрачная, дождь льет, и нам положили доску с верхней ступеньки лестницы на верхнюю подножку тарантаса.
Простились мы очень нежно с Екатериной Александровной. Жаль мне было с нею расстаться, так хорошо мне с нею жилось, но не думала я, крича ей из тарантаса: «До свидания!» – что этого свидания никогда не будет, и что я вижу ее в последний раз!..
И так мы ехали или, лучше сказать, с трудом тащились по грязи; а к вечеру, когда стало темнеть, все становилось холоднее и холоднее, точно дождь замерзал на лету; грязь прилипала к колесам, лошади останавливались на каждом шагу и наконец совсем стали. Тарантас – ни с места, точно пустил корни. А кругом – степь, ночь, холод! Стоим мы так час, – темно и пусто. И еще проходит больше часа, и никто не едет, все тихо… Но, вот, что-то скрипнуло… Ближе… слышно, что это немазаные татарские маджары, но чего ждать от татар! Вот слышны голоса. Это не татарский говор. Какое счастье! Это ведут пленных французов из Керчи в Одессу. Я прошу офицера позволить им нам помочь. Он только затрудняется тем, как им растолковать, что нам надо. А я сейчас же заговорила с ними по-французски, и они с удовольствием подбежали к тарантасу, а мы уселись в него. И вот – крики по-французски, по-татарски, по-русски, по-малороссийски, и вместе с тем усилия 20 с лишком рук, которые поднимают и пихают тарантас, заставляют лошадей идти вперед. Но не надолго, опять стали, и опять нам помогают, а одного из них, который всеми управляет и через меня учит нашего несчастного форейтора, как ему ладить и управлять лошадьми, я занимаю разговором. Узнав, что он был охотник и 12 лет провел в Африке, я вспоминаю, что читала в «Revue des deux Mondes» о зефирах и о «Жерар – великий охотник на львов», и стала его расспрашивать о них. Он был очень рад встрече с нами и долго нас провожал; а так как прежде чем быть солдатом в Африке, он был кондуктором дилижансов, то мог давать хорошие и полезные советы нашим возницам.
23-го мы ехали потихоньку и без всяких приключений. С 23-го на 24-е целый день лил дождь. Что за ужасная грязь! все на станции сидели со свечами. Я вышла в коридор; станционный смотритель стоит навытяжку против двери комнаты, которую занимает генерал Ушаков.
– А куда едет генерал? – спрашиваю я его. – В отпуск?
– Никак нет-с. Его превосходительство изволят ехать осматривать госпитали в Перекопе и Бериславе.
– А, госпитали! – И с этими словами я быстро отворяю двери и вхожу в комнату генерала, а смотритель остается с разинутым ртом от удивления, что его превосходительство так хорошо принял сестру. Неважное обстоятельство – выпить стакан жидкого чаю с генералом – вывело нас в этот день из ужасного положения.
Рассвело. Генерал уехал, и адъютанты тоже. И наши лошади весело и бойко побежали по дороге; перед нами небольшая балочка, но она вся наполнена водой. Въехал туда тарантас очень бойко, но на средине лошади упрямятся, останавливаются, прыгают на одном месте, бьют задними ногами, рвут постромки, гужи; дуга падает в воду, а вода так глубока и при сильном ветре так волнуется, что часто перебегает через грядки тарантаса.
Видный наш кучер Осип, с возгласом: «За что Господь меня карает!» – прыгает в воду и по пояс в воде завязывает постромки и поправляете дугу, На наше счастье, к нам навстречу едет легонький экипаж и счастливо переезжает через воду. Мы просим сказать смотрителю, чтобы он прислал ямщиков нам помочь, и вот что значит напиться чаю с его превосходительством: не только смотритель присылает ямщиков, но сам является верхом, хлопочет вокруг экипажа, закладываете почтовых лошадей на унос, и был до того снисходителен, что дал лишнюю пару до следующей станции и ничего не хотел взять, кроме законных прогонов. Мы очень ему были благодарны и спокойно и хорошо доехали до следующей станции на семерике. Смотритель же той станции, на которую мы приехали, никак не хотел дать нам опять лошадей, и хотя мы приехали рано, но дни короткие, лошади измучены, и надо их кормить по крайней мере три часа, а пускаться в путь на ночь невозможно.
Грустно и тяжело было сидеть тут с мучительной мыслью о транспорте! Он должен сегодня пройти мимо этой станции в Армянский Базар, а завтра, может быть, поедет и дальше! Что же мы тогда сделаем? И вот сидим мы с сестрой Никитиной и печально об этом разговариваем. Мы обе с ней в этот день были именинницы, и грустно проводили этот день. Сестра Антипова лежит, у нее начинается тиф, а мы сидим у окошка и смотрим на дорогу. Вот показалось несколько неуклюжих закрытых телег. Вот и офицер. Я быстро выбежала на дорогу и спрашиваю:
– Это какой транспорт?
– Ах, сестрица, как мы рады!
Тут я увидала, что это все юнкера.
– Нет, господа, вы не наш транспорт. Наш выехал 19-го.
– А мы выехали 15-го, и с тех пор все бедствуем.
И вот их человек десять входят со мной на станцию, и тут я увидала, что половина из них – подвыпивши; они начинают ссориться, браниться; я стала стараться их остановить, угрожала, что все это будет известно генералу Богушевскому, как они на станции срамят русский мундир. Но они не унимаются, а один высокий юнкер, с георгиевским крестом на шинели, начинает драку, – и пошла такая кутерьма, что мы схватили свои мешки и убежали в комнату смотрителя. Но, однако, шум скоро прекратился, и один из юнкеров, не участвовавший в этом побоище, приходил умолять нас простить его товарищей. Я ему говорю, что мы их прощаем, и в доказательство, что не будем жаловаться, не спрашиваем их фамилий. Является потом другой, а наконец и тот, который начал схватку, просит прощенья, и в знак прощенья просит дать ему поцеловать руку. Я поспешила исполнить его желание, лишь бы только он поскорее ушел. Тут началась истинная комедия. Он просит и другую сестру, чтобы она дала ему поцеловать ее «прелестную ручку», а она прячет руки и говорит, что она не архиерей, чтоб у нее руки целовали (она из духовного звания), так что мне, наконец, пришлось ей почти приказать дать руку, только чтоб он ушел.
Наконец они уехали, и мы опять пошли в комнату для проезжающих, и затем проезжие менялись один за другим. Вот ополченец из орловской губернии кричит и горячится, точно в виду неприятеля, а вот другой жалуется, что слишком скоро заложили, не дали ни согреться, ни отдохнуть (у него курьерская подорожная), а третий жалуется, что его целые сутки держат на станции (у него подорожная частная).
Ночевать нас позвали в маленький домик – возле станции, где мы всегда пили чай; нам там было очень покойно; оставалась одна еврейка с девочкой, а евреи, содержатели станции, так и проплутали всю ночь до утра, несмотря на то, что у них был лучший ямщик и от Армянского Базара всего 18 верст, – такова была темнота и грязь.
Когда я встала и взглянула в окошко, мне вспомнились слова Наполеона, о том, что он нашел пятый элемент в Польше – грязь». И мне так и представилось, что наши лошади станут на этих 24-х верстах, которые нам надо проехать до Перекопа, а потому я решилась лучше ехать на волах, и послала к становому свое открытое предписание от губернатора, графа Адлерберга, с просьбой двух пар волов. Привели пару каких-то замученных телят. Заложили. Еле-еле они оттащили тарантас от станции при криках татарина «айда!» и Осипа «цоб, цо-об!» И волы идут-нейдут, так что чувствуешь, что они не стоят, но и неприметно, чтобы мы подвигались. Так ехать 24 версты невозможно: мы заморозим больную сестру. И вот мы решаемся отпустить волов и заложить своих лошадей. Авось мы и доедем. Но с каким страхом мы глядим на всякое место, покрытое водой! Всякая большая лужа представляется нам местом нашего постоянного пребывания. Вот лощина вокруг колодцев – целое море! Въехали туда; широко и глубоко, но, слава Богу, земля под водою твердая. Наконец и Армянский Базар; в нем грязь невылазная, но проехали благополучно, а тут опять степь, и ехать лучше.
Вот и Перекоп. У заставы Соляного Правленья госпиталь №8. Тут стоят транспортные телеги. Ну, если это наш транспорт и он едет сегодня же в Чаплинку! Как мы поедем за ним! Мы проехали 24 версты, а туда-еще 27!..
Я увидала доктора на крыльце, выскочила из тарантаса прямо в грязь и, не поклонившись ему, спрашиваю:
-Когда вы выехали из Симферополя? Есть с вами ампутированные?
– Мы выехали из Симферополя 18-го; с нами нет раненых.
Слава Богу! это не наш транспорт.
– А есть еще транспорт в Армянском Базаре?
– Есть, только тот, который выехал из Симферополя 15-го.
Итак, мы, успокоившись, поехали к беленькому домику сестер, которые нас радушно и весело встретили.
Самое утешительное было то, что мы могли уложить спокойно больную сестру и позвать к ней доктора.
В это время в Перекопе старшей сестрой была очень хорошая сестра из нашего третьего отделения, Александра Ивановна Травина; но я тотчас заметила, что одесские сестры, которые были здесь прежде, как-то от нее отстранялись. Это очень грустно, а главное то грустно, что это почти везде так.
Чтобы узнать о судьбе нашего транспорта, я немедленно после обеда, с сестрой Травиной, поехала к генералу Богушевскому. Но и он тоже ничего не знает о судьбе нашего транспорта. На другой день, утром, в телеге на одной лошадке, по страшной грязи, мы с сестрой Травиной поехали в Армянский Базар. Там только нашли транспорт, вышедший 15-го, а о нашем – ни слуху, ни духу. Наконец 27-го пришел писарь из конторы с бумагой, только что полученной из Симферополя, что транспорт, состоящий из 450 человек, выехал 19-го. Должен быть 24-го в Перекопе, а извещение об этом получено 27-го! Какова распорядительность!.. Вечером этого же дня я поехала к коменданту, и там, наконец, узнала, что наш транспорт – в Армянском Базаре. Много труда было по узким и топким от грязи переулочкам отыскать квартиру доктора и офицера.
Наконец мы их отыскали и прямо сказали им, что, по приказанию Н. Ив. Пирогова, мы должны им сопутствовать. Они отвечали, что очень рады, что авось их больные будут смирнее, так как все солдаты очень уважают сестер. И тут офицер стал рассказывать, как они все время бедствовали с подводчиками, и, кажется, всю дорогу будет так продолжаться; да оно почти так и было. Потом я разговорилась с доктором и, наконец, спрашиваю у него:
– С кем имею удовольствие говорить?
– Я Алекс. Алекс. X…
Я не могла удержаться от восклицания, у меня сердце замерло.
– Вы знаете мою фамилию?
– Да, вы были в Боговутском госпитале.
– А вы слышали о сухой корпии? Это моя метода. Цинга оттого у нас развилась, что это было ужасное помещение в котарах (т. е. овчарнях) без света и воздуха.
Потом он предложил мне съездить с ним посмотреть ампутированных. Слава Богу: если все больные такие же, то есть надежда, что они все благополучно доедут, но, увы! – у многих раны портились, особливо при сильных холодах. На другой день транспорт должен был выступить. Я просила офицера или доктора заехать к нам, когда они поедут через Перекоп, чтобы мы могли к ним присоединиться.
Боговутский госпиталь, который меня так испугал, в это время был уже закрыт. Но больные рассказывали мне, что иных докторов они и в глаза не видали, а один носил с собой 10 аршин бинта и, подходя к раненому, говорил: «Я бы тебя перевязал им, да ты не стоишь, ты пропьешь». Так и уехал с этим бинтом. Больные хотели писать жалобу государю. Все это я слышала, но за верность не могу поручиться.
Как только мы пообедали, тотчас все уложили и стали ждать проезда транспорта. И что это было за бесконечное жданье! Совсем стемнело, а транспорта все нет и нет.
Наконец только в половине десятого, вошел к нам доктор и сказал, что транспорт прошел Перекоп; а он заезжал за лекарствами и ждет теперь их. Он так перезяб, что пришлось его напоить чаем. Наш тарантас сейчас принялись закладывать при фонарях, и наконец в одиннадцатом часу мы выехали.
Нас поехало только две. Больной сестре было лучше, но она еще лежала в постели, а в Екатеринослав должны были к нам приехать из Петербурга десять сестер.
В это время между Перекопом и Бериславом вместо прежних 4 этапов было их устроено 8. Шло ужасно много транспортов, и транспорты пропускали иные этапы и шли в те, которые были свободны.
На этот раз мы остановились у самого близкого, маленькой деревни Любомировки, и то мы до нее добрались далеко за полночь. Так было темно, что подводчики по замерзлой земле ощупью отыскивали дорогу. Каково это больным!
Только утром я пошла посмотреть больных. У нашего крыльца стоял офицер; тут же собрались наши подводчики да еще дворники из Армянска – требовать денег за сено, за овес. Брань, крик ужасный! Я пошла дальше. Вдруг обгоняет меня солдат на деревяшке и говорит мне: «А когда же мы в Москву?» – «В Москву? Так ты меня знаешь?» – «Да, как же. Я из Кузьминок кн. С. М. Голицына». – «Ах, Андрей Куликов! Очень рада; не именинник ли ты сегодня?» – «Да, именинник. Да вот, жаль, и молебна-то нельзя отслужить».
Я подошла к нескольким солдатам. Один из них без руки весело кричит: «Здравствуйте, Катерина Михайловна! А где моя маменька Борщевская?» (он так звал сестру Борщевскую оттого, что она ему дала крест).
А другой говорит: «Вы меня не узнаете? Я Лукьян Чепчух. Мои семь рублей были у вас на Николаевской, и вы уже с Бельбека прислали мне их в Северный лагерь».
Потом я вошла в избу, битком набитую нашими больными. Я принесла чулки, вязаные варежки, и вот со всех сторон начали кричать: «Дай, матушка, один чулок, у меня ведь только одна нога!» – «А мне на обе, да у меня одна рука, в портянки в два часа не обулся». – «Дай мне на правую руку!» – «Вот кстати, а мне на левую!» – «И мне на левую!» – «И мне тоже!»
– Да неужто не найдется кому на правую? – кричит один, смеясь. – У кого правая рука? Говорите!
Раздав безруким, я пошла отыскивать по телегам безногих. В нашем транспорте 80 ампутированных и 20 со сложными переломами…
То по грязи, то по замерзлой дороге, 3-го мы доехали до Берислава; но не только в этом маленьком городке, но и подъезжая к нему, в степи, было тесно: два транспорта, кадры полков второго корпуса. Тут и полуфурки, и маджары, и дилижансы, и таратайки офицеров, и все это едет и на лошадях, и на волах; едут в пять, в шесть рядов, а мокрый песок так замерз, что дорога, всегда тяжелая, на этот раз была прекрасная. С трудом, на измученных лошадях, подымались мы на крутую и бесконечную гору Берислава. Я тотчас пошла в госпиталь узнать, не тут ли Николай Иванович. Но его не было. Потом – на кухню, но вот горе! Нам объявили, что для нашего транспорта не готовят ужина; кое-как разместят людей, но сестрам нет квартиры, – а мороз очень большой. В ту же минуту подходит к нам плац-адъютант Берислава и очень любезно предлагает нам свою собственную квартиру. Я помню, как мы были благодарны г. Петровскому и прекрасно отдохнули в его теплой и чистой комнатке, тем более, что и насчет больных были спокойны. Видела доктора бериславского госпиталя, и он мне сказал, что все 30 человек слабых нашего транспорта приняты уже им в больницу.
Довольно поздно выехали мы из Берислава, но переход был короткий, всего 10 верст до немецкой колонии. Напрасно хвалили мне немецкие колонии: ничего я не нашла хорошего – ни особенной опрятности, ни чистоты; дома довольно большие, но зато народу в них много, детей куча и преплаксивые. То ли дело маленькие беленькие хатки и всегда особая – для сестер.
Ночь была пребесконечная и пребеспокойная. На рассвете мы пошли посетить больных по домам. Тут уже нет этапов, а людям дают на руки сырую говядину и крупы, а они сами себе готовят. Иные этим очень довольны, другие ропщут.
Выехали мы в 10 часов, и опять оба транспорта вместе. Что за ужасная была дорога! – вся покрыта одной сплошной, донельзя скользкой льдиной, и лошади беспрестанно падают; так и видишь, как шесть, десять и даже больше лошадей лежат распростертые, и усиленные удары и помощь нескольких людей заставляют их с трудом подняться на ноги. И по этой-то узкой и скользкой дороге надо то спускаться, то подниматься на гору. Мы беспрестанно должны были отстегивать уносных лошадей, чтобы наш неловкий форейтор не попал под них.
И вот, таким образом и мы, и транспорт бьемся до 4 часов. Начинает смеркаться, но утешают: всего, говорят, осталось 5 верст. Однако опять беда: гора, спуск прекрутой и предлинный, с косогором и размоинами. Транспорт – в самом жалком положены. Вот одна подвода попала в рытвину, и подводчик не знает, как ее оттуда вытащить. Вот другой отпряг лошадь и сам везет свою телегу; а этот тормозит за два колеса свою и осторожно спускает; а тут лошадь села на задние ноги и опускается, скользя по горе. А там дальше телега на паре: коренная бежит и тащит пристяжную, которая давно упала; все больные, которые могли идти, бредут пешком. Мы тоже вышли. Осип, осмотрев дорогу, бежит и кричит: «Погоняй спуск! Что мене робить?» – «А есть другой шлях, чтоб объехать?» – «Нема». – «Ну так надо как-нибудь спустить тарантас».
Я зову казака, служителей и какого-то мужика, который, к нашему счастью, стоял тут с веревками. Доктор тоже пришел. Отложили всех лошадей, кроме коренной; все четыре колеса подтормозили, и пять человек держат тарантас, а лошадь тоже не шагает, а съезжает на задних ногах. Но, слава Богу, все спустились благополучно. Опять беда – ручей. Сначала проезжали его по льду, но потом его проломили, а подъем от ручья крутой. Мы обошли дальше, чтобы пройти по льду. Поднялись, сели в экипаж – опять пригорок. Лошади еле нас тащат.
Слава Богу, вот деревня; но это не Меловая, куда мы едем, – до нее еще верста. Никоторые подводчики и больные бегут к офицеру, прося его остаться тут, так как лошади совершенно пристали. Опять горки и косогоры, но, слава Богу, доехали.
Сотский проводил нас на квартиру, и вот, выехав в 10 часов, мы только в 8 часов стали на ночлег. Хозяин только удивляется, как мы могли проехать по этой дороге, да еще по гололедице. И должна я признаться, к своему стыду, что в этот вечер я не в состоянии была идти к больным по избам.
На другой день опять то же, только переход был в 18 верст, и мы приехали в 5 часов. Тут была дневка. Боже мой, как мучительны, как томительны дневки! Уж я не говорю о том, что на этот раз мы стояли в небольшой хатке с хозяевами, что тут же хозяйка варила кушанье, да тут же было еще два артиллериста, да наш кучер и форейтор спали на полу. Но вот что было ужасно: больные помещены тесно; кроме того, почти во всякой хате по нескольку человек больных хозяев. Грустно, тяжело! Мы пошли ходить из хаты в хату. Скользко, холодно! (Я потом узнала, что в этот день было 26° мороза). В одной хате больные жалуются, что померзли, а в другой – что отбились от своего десятка и не знают, как бы пообедать.
Тут встретился нам подводчик, рослый мужчина; он горько плачет: у него из восьми лошадей осталось только четыре.
Взошли мы в хату, где собрались самые слабые. Глядя на них, ясно было видно, что вряд ли мы довезем их до следующей станции. Ужасно видеть умирающего и на постели, но знать, что в последние минуты его будут трясти на подводе в мороз – страшная, ужасная необходимость! Умерших мы можем оставлять, но умирающих должны везти. Сердце ноет, как об этом подумаешь, и молишь Бога, чтобы скорей до отъезда прекратились их страдания!..
Пошли мы дальше. Несколько подрядчиков бегают с 50-рублевой бумажкой, которую им дал офицер, и никак не могут ее разменять. Но что же делать? Офицерам всегда дают крупные ассигнации, и они не знают потом, как и рассчитываться.
А тут старик подводчик стонет и плачет. Он нам говорит, рыдая: «Со вчерашнего дня я не знаю, где мой сын. Может, он замерз эту ночь в степи».
Мороз ужасный, земля потрескалась. Но, слава Богу, сын его оказался жив и здоров.
Наконец пошли мы к доктору и офицеру. Первый в горе, говорит нам: «Мы всех людей переморозим!»
А офицер совсем растерялся. «Что я буду делать, – говорит он, – у меня хлеба для людей только на один день. И лошади нейдут, надо их перековать, а у подводчиков не достанет денег, если будем дневать часто. Боже мой! лучше бы я лежал в жестокой горячке, чем быть с этим транспортом! Мы ведь не доедем до Екатеринослава!» А у самого слезы на глазах.
– Полноте так унывать! Авось Бог поможет! – а я сама готова была расплакаться.
Потом мы опять идем по больным, и так проходит длинный, бесконечный день. Хоть то хорошо, что люди довольны тем, что была дневка.
На другой день легкая морозная погода, и после долгих толков решили, что можно доехать до Золотой Балки. Транспорт выехал, а мы остались, чтобы перековать лошадей, и то только могли подковать одну.
Как поднялись мы в гору, так и ужаснулись: такой был холод и ветер и тоже мученье – по льду падают лошади. Хотя мы выехали гораздо позднее, но мы всех обогнали. Транспорт растянулся на все 24 версты; так и видишь, что то у одной, то у двух или трех подвод упали лошади и лежат. И что еще мучительнее: мы не можем послать нашего кучера им помогать; он совсем измучился, подымая своих лошадей; а за форейтора сердце замирает, так часто под ним падает лошадь. Месяц уже давно взошел, когда, наконец, мы увидали церковь. Но спуск с горы был опять очень трудный. Мы с сестрой пошли пешком, и только с помощью наших безруких больных, которые тоже предпочли идти пешком, мы благополучно спустились по этой скользкой горе. Хатки в деревне маленькие, тесные, и я прямо отправилась к священнику, прося его пустить нас переночевать. И он, и жена его приняли нас очень радушно, только совестились, что у них очень холодно.
Мы пили с ними чай, разговаривали со священником о Державине, о Глинке, об Авдотье Павловне Глинке, которою он восхищается; справлялся о Погодине, о Шевыреве. В этих разговорах я как-то морально отдохнула, а потом и физически. Хотя было и холодно и наше все белье сильно промерзло в наших мешках, но мы были одни и могли лечь по-европейски, а не по-азиатски, как все эти дни, т. е. в полном одеянии.
Под шубой я проспала и отдохнула прекрасно, и встала совсем здорова, несмотря на то что вода, которая стояла в стакане возле меня, совсем замерзла. Сестра улеглась около самой печки и от этого угорела.
Только утром собрались все больные. Опять пошла я с доктором по больным. Право, сердце надрывается! В этот день у нас умерло трое, да четвертый – подводчик. Делать тут опять дневку было невозможно. Решились ехать только 7 верст до Осокоровки – авось туда все съедутся. И вот транспорт съезжает на Днепр, лед крепкий, славный, дорога гладкая и не скользкая.
Какие живописные берега! Камни, скалы, деревья, беленькие домики по склонам, а иные лепятся к скалам. Как славно скакал наш пятерик мимо двух больших мачтовых барок!
В этот день все доехали благополучно. Офицер достал хлеба; мы поместились в порядочной, чистенькой хатке. В переднем углу много образов, и между ними Богородица Трех радостей.
Тут была только одна старушка, которая сидела, молчала и глядела на нас; а когда я ей стала говорить, что же она не спит, она отвечала: «Дайте мене вас побачить».
Это имение кн. Воронцова, и, слава Богу, народ тут живет хорошо; а то страдаешь, глядя на больных, да и на хозяев, которые шесть дней ходят на панщину. И что это за тяжелая у них жизнь! Боже мой, сколько страданья везде и всем!..
Утром мы разглядели, какое хорошее местоположение этой небольшой деревни. По скату горы большие деревья, сады и плавни Днепра, который тут образует целый залив.
А наша старушка уже у печки, печет пампушки для своего правнука, который босыми ножками бегает по холодному земляному полу.
Вот вошел седой старик; борода и волосы его покрыты инеем. Он сел и стал развязывать ремешки, которыми к его ногам привязаны подковы. Только что он вошел, старушка принялась бранить его: «Який дурень! А что если б тебя силой посылали, ты бы говорил: стар я, слаб, где мне! Вот уж можно сказать: охота пуще неволи! Прости Господи, точно не в уме!»
– А где же ты был, дедушка? – спрашиваю я.
– Да на охоте, матушка, всю ночь в поле.
– В этот мороз!
– Так что ж, ничего. Только, жаль, лисичка ушла, а зайчика поймал.
Старушка опять принимается его бранить; он – ее муж, прадед мальчика.
– А сколько ему лет? – спрашиваю я.
– Да, вот, мне семьдесят семь, а он годом меня старше.
Каков старик! И он давно не ест мяса, а тут жаловался только, что глаза горят.
Было у меня все это время сильное, пламенное желание: 10 декабря – день, в который я надела крест, год тому назад, – быть в церкви и отслужить благодарственный молебен. Я никак не надеялась, что это желание исполнится, но решили, что по такому холоду и по такой скользкой дороге надо делать маленькие переходы.
До села Марьина, где был назначен наш ночлег, надо было ехать через Новую Воронцовку, где мы встречали новый год. Итак я решилась заехать к управляющему Солнцеву. Нас встретили так же радушно, как и тогда, но вот что меня очень огорчило: три часа до нашего приезда проехал Николай Иванович.
Вот если б я имела малодушие, вместо того, чтобы оставаться в Осокоровке, уехать к Анне Давыдовне Солнцевой, чтоб лучше отдохнуть, я бы его видела; а как мне это было нужно!
Мы отправили своего верного Осина в Марьино и остались обедать, а после обеда вместе с Анной Давидовной в больших санях четверкой, по-городски, с форейтором и сзади слуга, мы поехали в церковь.
Как мне ясно и теперь видится эта маленькая церковь без купола и колокольни, а над тесовой крышей только крест блестит розовым сиянием заката… Когда мы вошли, шла вечерня. Потом я просила священника отслужить благодарственный молебен. Как я молилась, как благодарила Господа за то, что могла хоть не лепту, а миллионную часть лепты вложить в великое общее дело! Как я просила Бога простить мне все, что я сделала в продолжение этого года против данного мной обета, благодарила за свои силы, за свое здоровье!..
Анна Давыдовна Солнцева довезла нас до священника, где мы ночевали очень покойно. И на другой день мы не спешили, пообедали у него. Переход был всего семь верст до Грушовки, имения барона Штиглица. Душа отдыхает в таком имении. Хаты славные; волов, коров, овец, и особливо свиней – бездна! Куры, утки, гуси – во всяком дворе. Видно, что крестьянам жить хорошо, что об них есть попечение. Больница, доктор и все пособия. Мы очень рано приехали, а вечером я пошла в дом управителя; там собралась большая компания, больше немецкая, но хорошо говорящая по-русски. Они с большим любопытством расспрашивали про Севастополь, а мне показывали издание Тимме с портретом Павла Степановича Нахимова.
Я вспомнила, что мне рассказывали про этот портрет: когда Тимме хотел нарисовать П. С. Нахимова, то он сказал: «Зачем? За то, что я исполняю свой долг-с? За это нечего-с. Это пусть с Кошки (Кошка – известный тогда казак) да с Асланбекова (первый севастопольский красавец) рисуют портреты, а с меня не нужно-с».
А когда ему показали его портрет, нарисованный Тимме в церкви, то он сказал: «Да это-с просто разбой-с! Если б я знал-с, велел бы его вывести-с! Ну, а теперь Бог с ним, отдайте ему, если нравится, а мне не нужно-с!»
Хотя у нас была дневка, по мы встали со свечами, и как только начало рассветать, я пошла по больным. Я обещала доктору помочь ему переписать больных, и вот мы с ним пошли, я по одной стороне, он по другой. Однако случалось нам сбиваться и заходить в избу, где уже был другой; ведь здесь не одна прямая улица наших русских сел, а несколько, с переулочками и закоулочками.
Вечер мы провели у вдовы прежнего управляющего; у нее четыре дочери – старшая замужем за здешним доктором; милое, добродушное семейство.
На другое утро рано стал собираться транспорт, а я пошла к здешнему доктору – взять нужные нам лекарства. Только что я вернулась, доктор и офицер стали меня просить скорей ехать и догнать слабых больных, которых уже отправили, а они должны остаться, выпроводить прочих. Остановиться надо в Чартамлыке. Ну, уж никогда не забуду я этого Чартамлыка! Уложились мы наскоро и скоро догнали транспорт и поехали за ним. Часто я высовывалась из тарантаса и смотрела, где же этот Чартамлык?
– Боже мой! Поглядите, сестра, ведь тут остановиться нельзя, а это и должен быть Чартамлык!
И перед нами не деревня, а маленькие хатки, разбросанные по балке, одна от другой на четверть или на полверсты. Казак, которого я послала еще вперед узнать и посмотреть, прискакал ко мне и говорит:
– Тут оставить людей невозможно! Тут есть – кто говорит, за три, а кто за пять верст – большая деревня.
Нечего делать, надо решиться ехать туда, но что скажут доктор и офицер? Однако что же делать?
Поехали. Спустились под гору, поднялись. Что же это? Все подводы съехались в одно место и стали. Подъезжаю – шинок. Подводчики и больные, которые ходят, ушли туда, а слабые лежат и зябнут на повозках. И казак ушел туда же. Послала я Осипа, но все не выходят. Я выскочила из тарантаса и прямо в шинок, и так закричала на всех, что они тотчас побежали вон, а высокого, чернобородого подводчика я повернула и так повелительно указала ему на дверь, что и заплаченная чарка осталась невыпитой.
Транспорт тронулся. Я всех встречавшихся стала расспрашивать о деревне, куда мы ехали. Мне стали говорить, что нас туда не пустят, что там казенная аптека. Можно легко себе представить, каково было мое положение: я еду одна с самыми слабыми и не знаю, пустят или нет!
Но вот взяли направо, показалось село; я велела повернуть и поехала скорее, хотя было ужасно скользко. Проехала деревню. Слава Богу! Вот наш казак, а с ним сотский, чтобы расставлять людей. Пока больные по скользкой дороге не доехали, он указал нам квартиру: маленькая, темная, сырая хатка. Моя товарка в горе, а Осип говорит, что все, что у нас есть в тарантасе, и не поместится в этой хатке. Я им объявляю, что мне все равно, что мне дела нет до того, как мы проведем ночь, но надо, чтобы сотский шел скорее к больным, и сама пошла за ворота деревни ждать их.
Вдруг приятный голосок раздается подле меня: «Маменька просит вас пожаловать к нам чай пить». И хорошенькая 12-летняя девочка стоит передо мной.
– А кто ваша маменька?
– А папенька мой здесь с аптекой из Херсона.
– С удовольствием! Сестра сейчас пойдет с вами, а мне надо видеть офицера и знать, что весь транспорт приехал.
Я скоро дождалась офицера и потом пошла в большой господский дом. Аптекарь занимает только две комнаты. Он – немец, она – русская. Прием и угощение были самые радушные. Разговорились про Севастополь, и она рассказала, что ее брат лежал в Собрании, что у него была отнята нога. Тогда я вспомнила, что это тот юнкер, которого я 6 июня провожала до баркаса. Он, бедный, через неделю умер. Мы собрались идти ночевать в нашу хатку, но аптекарша просила сделать ей великое одолжение – остаться ночевать у нее. Хотя нам и было совестно, но мы согласились.
Не мудрено дать лишнюю комнату, но аптекарша делилась с нами своей; а комната была хорошая, высокая, теплая, сухая. И после волнений этого дня мы хорошо могли отдохнуть.
На другой день мне необходимо было написать письма в Симферополь к доктору Тарасову и Екатерине Александровне. Так как мы должны были быть в Никополе, от которого Неплюево, где мы ночевали, в восьми верстах, то я имела возможность отдать их на почту. И на этот раз сестра пошла с доктором к больным, а я осталась писать.
Вдруг вошел какой-то господин и вскрикнул: «Вы как здесь!» Я тоже его узнала. Он был смотрителем госпиталя в Севастополе, Яковлев, и я его всякий день видела на Николаевской батарее. он теперь живет с женой в Никополе, и хотя у них только две комнаты с земляным полом, но он сам уйдет к знакомым, а мы должны приехать ночевать к ним, – и не отставал, пока я ему не дала честное слово, что поеду прямо к нему.
Рано мы приехали в Никополь. Я сейчас пошла в приемную госпиталя, где мы должны оставить наших самых слабых больных и взять на их место других, покрепче. Обошла и госпиталь! Иные – еще слава Богу, а другие!.. Боже мой, лучше и не вспоминать.
От Никополя до Екатеринослава нам остается 115 верст, но это прямой дорогой, а ведь мы едем с деревни на деревню. На другой день, пообедав с нашими хозяевами в 12 часов, мы поехали за транспортом до Красногригорьева, огромной деревни на несколько верст. И меня очень беспокоило, что я не отыщу ни доктора, ни фельдшера. Но так как всех слабых больных мы сдали, то в этом и не было большой нужды.
16 декабря, выехали мы почти вместе с транспортом. Хорошо, что офицер ехал сзади нас; опять начались наши бедствия по балкам. Спуск не длинный, но крутой и кривой, прямо на речку. Хорошо еще, что мы вышли, а то Осипу пришла дикая мысль, что если он спустит скоро, то лучше будет. Но вот тарантас раскатился на бок, на бок – и совсем опрокинулся. Мы и офицер подбежали к тарантасу, стараемся приподнять его очень спокойно, даже со смехом, но я вскрикиваю: «Боже мой! шкворень пополам! Что мы будем делать?» Кое-как связали веревками; но офицер никак не хотел посадить нас в изломанный тарантас, и посадил в свой маленький, а сам сел на козлы. Меня это очень беспокоило: хотя он румяный и полный, но был ранен в ногу, и от этого в холод страдает. Несколько раз, видя, что наш тарантас бредет помаленьку, я хотела сесть в него, но он никак не допустил, и мы скорее транспорта приехали в Тумановку.
Опять огромная деревня. Нам отвели квартиру очень далеко, но в том конце была кузница, а нам она была необходима для нашего тарантаса, который тоже скоро приехал. Очень трудно в темную ночь в этих огромных селениях отыскать доктора и фельдшера, который всегда находится при слабых больных. Да уж тут с тех пор, как мы проехали Берислав, я не могу ходить одна. Вот и в этой деревне я ходила со старушкой нашей хозяйкой, которая вооружилась огромной палкой: тут держат презлых собак, ради волков, которые во множестве водятся на плавнях.
Но сколько я ни ходила, не отыскала ни фельдшера, ни больных, и только утром нашла их.
Выехали мы в десятом часу и решили, чтобы не ездить в сторону, пропустить один этап и ехать прямо на Александровку (Безбородка тож). Туман самый печальный, погода самая грустная; густой иней на все садится. На днях была тут метель; в иных местах много снегу, бурьян весь опушен инеем, все бело и мутно. Скучная, ровная местность – степь.
Но мы на нее радуемся, а то всякая маленькая балочка – беда, с ее раскатами и закатами. Едем тихо и долго, и вот деревня. Проводник объявляет, что дальше он не знает дороги. Взяли другого. Едем еще верст десять. Стало темнеть все больше и больше. От снегу только несколько белеется, но все мутно, неясно.
Люди начинают жаловаться на бесконечный переход, лошади начинают останавливаться. Вот в тумане огонек, другой. Залаяли собаки. Ночлег, отдых. Приехали на господский двор. Офицер прибегает к нам вне себя и говорит, что помещик не позволяет расставлять людей, что нас напрасно привезли сюда, что это Маленькая Безбородка, нам надо в Большую; что он даст проводника, но туда еще 4 версты. И доктор тоже ходил напрасно к помещику.
– Кто помещик? – спрашиваю я.
– Александр Яковлевич Савельев.
– Ах, это тот, с которым я познакомилась в Екатеринославе.
И я пошла к нему, а он говорит, что деревня мала, что много больных, предлагает свой дом (манера говорить); дом нетопленый. Хватает меня за руку, просит обогреться, пить у него чай. Я отвечаю, что ни за что на свете не оставлю теперь транспорта, хоть замерзну с ним! (Тоже и с моей стороны – манера говорить преувеличенно; я очень хорошо знала, что не замерзну).
Но ужасно было досадно, тяжело – ночью в ту минуту, как думал, что доехал, согреешься, отдохнешь – опять ехать, опять четыре версты дороги!
Достали проводника, поехали. Боже мой, как долго мы ехали! И опять была балка: пришлось выходить и идти пешком. Наконец, очень поздно, мы дотащились. Это тоже помещичья деревня другого брата Савельева. Мы остановились в первой указанной нам маленькой хатке, вместе с хозяйкой и детьми. Легли одетые на узкие лавки, но так было поздно и так мы умаялись в этот день, что скоро заснули.
На другое утро я ходила с доктором по больным, что в этих больших деревнях очень затруднительно. Доктор мне сказал, что управляющий очень сожалеет, что мы не поехали прямо к нему, и поэтому, вернувшись, я послала попросить у него молока, которого не могли найти во всей деревне. Сам управляющей пришел к нам с извинениями (не понимаю, в чем он извинялся) и прислал нам горшок молока в полведра, а экономка явилась с сливочным маслом и сожалением, что не у нее остановились, – и как бы она нас успокоила и покойно бы уложила!..
Выехали в 12 часов. Переход маленький, скоро доехали. Опять огромное село, да что еще хуже – так разбросано, что хата от хаты очень далеко, так что от одной хаты я не могла докричаться до другой, возле которой стояла женщина, и надо было идти десять минут, а иногда и более, чтобы услыхать ответ на вопрос, есть ли больные: «Нема!»
Далее мы ехали хорошо и рано приезжали на место. Наконец 20 декабря – транспорта на 32-й, а мы на 29-й день – приехали благополучно в Екатеринослав.
читать дальше