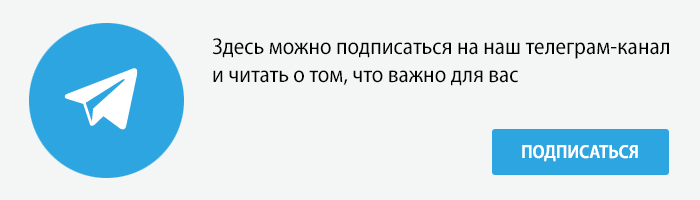Эти записки из дома престарелых – не воспоминания и не впечатления, а вопросы и ответы, которые я записывала после разговоров с теми, кто говорил слишком тихо.
Озвучить их, сделать слышными – значит, показать жизнь там, где, как принято считать, она замирает перед тем, как угаснуть. А ведь именно эта жизнь обретает небывалую глубину.
Это сразу удивляет тех, кто попадает сюда «с воли», а, спустя время – и тех, кто годами лежит на казенных кроватях, не видя большого мира, считая, что жизнь закончилась.
Человеку в этой стадии беспомощности хочется протянуть руку, каким бы он ни был. Ты перестаешь воспринимать людей, как плохих или хороших – просто видишь их.
Надя
С первой минуты знакомства с ней я задалась вопросом: почему человек, годами неподвижно лежащий, речь которого атрофировалась после то ли инсульта, то ли от деменции, то ли от душевного потрясения – оказывается с первой минуты знакомства таким понимающим?
Почему понимание и чуткость тоньше всего настроены у тех, кто сам давно потерял на них надежду?
Мы видимся не так часто, но каждый раз здороваемся, пожимая друг другу руки или обнимая. И ее единственная действующая рука раз от раза все легче и невесомей. Почему же прикосновение этой руки кажется таким целительным? Или потому что это открывает глаза на простые вещи: брать за руку, встречаться глазами, радоваться встрече, как подарку, радоваться просто тому, что человек жив?
Невозможно радоваться только глядя со стороны: жизнь не делится, она общая – радуясь другому человеку, радуешься и своей жизни, в которой есть эта встреча.
– Оленька, ну Надя ведь уже на грани – между здесь и там, – ласково говорит мне тетя Таня. – Медсестры иногда подходят послушать, жива она или уже нет.
– Тетя Таня, те, кто здесь – те только здесь, – упрямо отвечаю я. Понимаю, что для моих подопечных смерть – это часто избавление от страданий, но мне упрямо хочется, чтобы они были живы. Из чувства какой-то общности, к которой принадлежим все мы, пока живы.
***
Принято считать, что боль и старость уродуют тело. И правда, градус безнадежности в таких местах прямо пропорционален степени грязи и заброшенности. Однако среди «тех, кто на краю» я встречаю удивительных. Несмотря на внешний вид, они не теряют человеческого достоинства.
Они не просят больше минимума – и вообще ничего не просят, но остро чувствуют и принимают самое малое живое внимание. Не помнят зла и живут вне всякого быта, потому что ничего своего у них нет.
Можно спросить: а зачем им, если они ни ложку держать не могут, ни с постели встать? Да затем, что человеку хочется сознавать что-то как свое.
– К нам приезжали в гости студенты, и мы играли в воздушные шарики – представляете? Так я с этим шариком потом еще две недели спала и так плакала, когда он сдулся…
***
Беззвучие или спутанность речи больных учит понимать взгляд и движение губ.
– Чего тебе сейчас хочется, Надя?
– Общаться с тобой, – полушепотом говорит она. – Потому что тогда чувствуешь, что ты кому-то нужен.
В «Рождественских каникулах» Сомерсета Моэма, Лидия говорит Чарли о натюрморте Шардена: «Это о том, что жизнь коротка и трудна, а в могиле холодно и одиноко. Это не просто хлеб и вино. Это тайна жребия человека на земле, его тоски по толике дружбы, толике любви, тайна его безропотной покорности, когда он видит, что даже и в этом ему отказано».
В доме престарелых и жизнь, и смерть часто одинаково безмолвны.
Кто-то не может говорить, у кого-то болезнь отняла способность говорит, кто-то просто смирился с тем, что ждать больше нечего. Глядя на палату и вспоминая эти слова из Моэма, я думаю, что будь Шарден нашим современником, то написал бы не хлеб и вино, а казенный обед в интернате для инвалидов.
***
После общения с лежачими – поговорить, покормить, напоить чаем или компотом – я возвращаюсь в ординаторскую, чтобы снять и повесить халат. Там меня ждет разговор со старшей медсестрой.
– Они всегда очень ждут, любят вас, особенно самые слабые. Их легко понять. Но… скажите, вам-то, сюда ходящим, это зачем? Что вы в них находите?
Обескураженная, невпопад отвечаю:
– Все.
И действительно, одиночество, горечь, радость, предательство, унижения, отчаяние, помощь, беспомощность есть в каждой судьбе. Просто как часть жизни. Человеку в этой стадии беспомощности хочется протянуть руку, каким бы он ни был. Ты перестаешь воспринимать людей, как плохих или хороших – просто видишь их.
Отвернуться от страданий ты не можешь, как не можешь не переживать их, но тут же обретаешь и способность видеть невероятно трогательную любовь и благодарность.
«Голодная?» – с тревогой спрашивает меня баба Маня, у которой и своего имущества-то нет.
Крашеная железная тумбочка на колесах, пластиковую кружку и тарелку из нержавейки ставят, только когда приносят обед. Яйцо и кусок хлеба с кубиком масла – единственное, принадлежащее ей, из того, что лежит на столике. Не дожидаясь ответа, она берет яйцо и хлеб и отдает их мне.
Дядя Саша

В мужской палате сельской больницы – новенький. Мужчина «лет за пятьдесят», невысокий, в молодости, видимо, был из тех, о ком говорят «юркий». Говорливый, но по большей части себе на уме – без откровенничанья.
Когда я выхожу поговорить по телефону, дядя Саша – так он представился – курит на крыльце. На дворе март, прохладно, а он в тельняшке и спортивном костюме. Спрашивает, часто ли приезжаем сюда, что, да зачем. Потом заговаривает о себе – без предисловий.
– Я вот всю жизнь так прожил… проболтался… Ну как, понимаешь… В молодости по глупости украл че по мелочи – попал в тюрьму. Потом вышел – да опять… По глупости все, это уж как привычка жить. Дрянь такая жизнь, конечно.
И вот тут, в Волоколамске, встретил женщину. Хорошая такая, думаю, с ней и останусь. Хватит уж болтаться, могу ведь я жить нормально, по-человечески. Но вот заболел – и отправили меня сюда. Говорят, что тут теперь и жить буду, как старики, да пожилые, у кого дома нет.
А я тут не хочу. Я к ней хочу вернуться, я ж не старый еще. Пожить хочется – и ведь может хорошо получится пожить? Вот смотрю на вас – и хочется жить-то.
– А она что? – поддерживаю разговор я.
– А она что-то трубку не берет, когда я ей звоню. Странно, почему? Не понимаю…
А врачи говорят – вы здесь насовсем, вас соцзащита определила сюда. Уйти не могу, одежду теплую мою не отдают мне. А я не понимаю: почему она со мной не говорит? И не приходит. Наверное, не знает, что я здесь. Но я все равно уйду. К ней. Пожить еще хочется. Получится, да ведь?
– Надеюсь, да, дядя Саша.
И я правда надеюсь, потому что когда человек надеется на лучшее, не хочется ему мешать, каким бы ни было его прошлое. Когда жизнь по глупости – а дожить хочется – по доброте.
– Ты бывай, Олька. Хороший ты человек. Может, и увидимся еще когда.
Я первой прохожу в дверь и иду в палату. По пути мне говорит санитарка:
– С этим глаз да глаз иметь надо. Он может сбежать.
Я молчу. Потому что в эту минуту я снова надеюсь, что у дяди Саши будет дом, где его ждут. Эта надежда на лучшее не дает мне «профессионально деформироваться», даже когда сюжеты таких историй, увы, неутешительны.
«Вы меня сдавайте, не мучайтесь»
– Некоторых из них нам привозят с вокзалов, – говорит старшая медсестра.
– Бездомные? – понимающе уточняю я.
– Нет.
Это те, от кого так избавились родственники. Просто им надоел психически больной или выживший из ума старик, они купили билет до какой-нибудь станции подальше, посадили на поезд и все.
Он, ничего не понимая, и не умея объяснить, доезжает до незнакомого города – на станции проводник высаживает его, а тот совершенно дезориентированный, не понимает ни где находится, ни что с ним происходит. Затем его забирает милиция – и сдает нам. Паспорта при нем уже нет, а сам человек не то, что не может объяснить, где живет, – не помнит, как зовут и как фамилия.
Я сижу и мрачно думаю о том, что ничего и никого в жизни невозможно отправить неведомо куда без обратного билета.
– Оль, ну я понимаю, что ты их жалеешь. А я вот и родственников тоже понимаю. Вот Вера Петровна у нас лежит. У нее есть и дочь, и внучка. Внучка в школу ходит, в старших классах учится.
Но когда бабушка слегла, дочь решила определить ее к нам в интернат. Говорит, от лежачего человека дома пахнет плохо.
Она на работе весь день, не может ей памперсы менять – только утром и вечером. Внучка тоже замучила мать скандалами: ни самой жить, ни подруг в гости не позвать, когда в доме воняет так… Что ты так смотришь?… Я вот их понимаю. Ну не могут они сами за лежачим стариком ухаживать, так что теперь?
И оно надо им, мучение это?… Я вот всю жизнь в интернате работаю, всякого насмотрелась, но своим детям тоже сказала: если что со мной случится, и меня сдавайте, не мучайтесь. Не хочу, чтоб из-за меня мучился кто-то, там более дети мои…
Мы стоим на площадке первого этажа, где лежачее отделение – больное место всех домов престарелых, именно тут стоит неистребимый запах нечистот, грязи и старости. Чуть ниже открыта дверь на улицу, где во дворе гуляют колясочники и те, кто может самостоятельно добраться до скамеек.
И кажется, что на площадке, где мы стоим, встречаются два потока – теплый воздух со двора и смрад из отделения, чуть закамуфлированный хлоркой.
Так же и у меня в голове не сходится паззл:
– А когда внучка была маленькая и не доходила до горшка, бабушка тоже злилась, что плохо пахнет и гостей не пригласить?
«Я все простила, приезжайте хоть раз»
– Пелагею Андреевну привезли к нам из социальной службы. Пьющие сын и невестка выставили ее из квартиры, она жила на лестнице. Соседи ее подкармливали, а когда наступила зима, позвонили в собес: «Взять ее к себе не можем, но невозможно же, чтобы человек в холод жил на лестничной клетке».
– Она общается с родными?
– Да, звонит им периодически, спрашивает, как дела и зовет в гости, чтобы пришли к ней сюда, в больницу. Скучает по ним. Она вообще-то такая, к труду привычная… Войну прошла и бедность: ее тогда чуть не засудили – отдавала «в кредит» соседским детишкам продукты. А как, говорит, было поступить: они ж померли бы с голоду? Она и сейчас еще такая – хоть и сухонькая, но сильная. И полы бы мыла дома, и готовила, и по хозяйству все делала.
– Но ведь таким старикам в больнице лучше, чем дома с такими родственниками?
– Ох, Оля… Умом-то они это понимают. И у нас здесь хорошо – больничка у нас домашняя. И к ним хорошо относятся – и другие старики, и медперсонал.
И еда вкусная, и уход хороший. Но если бы ты знала, как иногда внезапно и горько они начинают плакать…
И все сразу становится понятно – не это им нужно. Пелагея Андреевна незадолго до своей смерти звонила им и просили прийти. Говорит, я все простила, приезжайте хоть раз, вдруг умру скоро – так хоть один раз увидимся, попрощаемся…
– Они приехали? – я упрямо надеюсь на лучшее.
– Нет.
«Я в голове все время песни слышу»

– Послушай, Оля, у меня начался в голове шум какой-то – как будто песни слышу все время… Приходил, наконец врач, оставил вот таблетки. Я их пью, но песни все равно слышу и слышу.
Я беру в руки коробочку – «Амитриптилин». Понимаю, что здесь был психиатр.
– Оля, я боюсь сказать об этом врачу, – продолжает баба Галя. – И не говорю. Я боюсь.
– Чего боитесь, баба Галя?
– Они ведь меня отправят в ПНИ. А это ведь еще хуже, чем здесь. Я до этого жила в маленькой больнице в деревне, нас там человек двадцать стариков было, а потом ее закрыли и нас всех перевели сюда. Там было лучше, конечно, – тихо, все свои и врачи все время к нам приходили. Все мы, старые, у врачей на виду были.
А здесь, в большом доме, врача не дождешься – много нас, кому мы нужны… Но в ПНИ еще хуже ведь… Буду молчать, что голоса мне покоя не дают…
Баба Галя еще не успела закаменеть в отрешенном напряжении казенной атмосферы дома престарелых на несколько сотен человек, где за горой проблем человека не видно.
«Вот выпишусь из больницы, вернусь к своим…»
Как-то я видела в интернете подборку фотографий детей-сирот в детдоме и спустя год после усыновления. Перемены были разительны.
Тот же самый процесс – только наоборот – я вижу в стариках. И если те, кто приезжает самостоятельно, еще улыбаются и глаза у них «домашние» – я чувствую себя предателем, зная, какие глаза у них будут очень скоро.
Нет, их не обижают. «Они закукливаются», – так называет это персонал. Это значит, у новоприбывших появляется сиротский отсутствующий взгляд и скованность в теле.
Иногда старики, только попавшие в дом престарелых, думают, что они в больнице. Некоторым дети и не говорят, где они на самом деле.
Одна бабушка рассказывала моей приятельнице: «Мы ехали на поезде, дочь сказала – в больницу. Если бы я знала, куда она меня везет, я бы выбросилась на ходу».
– Ой, девочки, какие вы хорошие, – между кряхтениями и оханьями говорит мне тетя Шура. – Вот выпишусь я из больницы – приходите в гости ко мне. Я тут недалеко живу.
Я разглядываю обстановку. Кровати, застеленные клеенками и смятыми простынями. Обшарпанные стены с пятнами. На тумбочках приготовлены к обеду одинаковые чашки и ложки. Из-под подушки тети Шуры синий частый гребешок, который я купила ей, чтобы «делать прически». Она его бережет.
– Иэх, раз уж ты сюда попала – так теперь ты тут живешь, – рассеивает ее заблуждения пожилая нянечка тетя Рая.
– Как же так? – недоумевает тетя Шура.
– Да ну вот так. Ладно, Шура, давай не рассуждай, поешь лучше.
Позже тетя Шура встречает меня вопросом:
– Детка, скажи, зачем мы живем? Зачем Бог нас на этом свете держит и мучает?
Этот мучительный вопрос я слышу постоянно. И единственный мой ответ – я вот прямо сейчас могу поменять тете Шуре ночную рубашку – грязную на чистую. Меняю.
– Ну, а вам на что такое мучение с нами, со старыми? – не унимается, плача, она.
– Это не мучение, теть Шур. Это радость.
Я обнимаю ее – и в этот момент радость и жизнь хоть на секунды, но торжествуют.
***
– Оля, ты замечала, что Тетя Нина не ест конфеты, которые вы приносите?
– Да. Смотрит куда-то в сторону и вид у нее отсутствующий и расстроенный.
– Почему?
– У ней есть сын, но он не приходит. Эти конфеты не от него.
«От сочетания слов «анальгин» и «рак» мне хочется топать ногами от отчаяния»
Говорим по телефону с медсестрой из дома престарелых.
– Оля, у Вали обнаружили рак.
Я молча корю себя за то, что считала симптомы глубокой депрессией. Валя часами лежала и смотрела в стену. Когда с ней заговаривали, она отвечала не сразу. Испытующе смотрела несколько минут и четко, но отрывисто говорила. Обо всем говорила так, как будто решила для себя раз и навсегда. Без тени эмоций.
Так было, и когда мы познакомились.
«Меня сдала сюда сестра. Я её не виню. Понимаю даже.
Ну что, она пожилая. И я пожилая и лежачая. Ей со мной тяжело. Буду лежать здесь. Почему-то дома у меня не было пролежней, а здесь появились – и сразу глубокие».
– …нет, неоперабельный… нет, болевого синдрома нет… нет, обезболивание не нужно: все есть. Что именно? Ну, баралгин, кетанов, анальгин.
Это Валя говорит с сестрой по телефону. От сочетания слов «анальгин» и «рак» мне хочется топать ногами от бессилия и отчаяния.
– Жалко их, Оль. Вот смотришь, бабушка Зина – уже истаявшая и все никак не отойдет… Они умирают – ну, это жизнь.
Работа в доме престарелых приучает сестер и врачей ценить жизнь меньше. Тут и фатализм, и бессилие что-либо изменить, и бесправие. Как им помочь? Как помочь увидеть в каждом из умирающих судьбу, чувства?
– Ты приходи, приходи ко мне. Будешь моей подружкой. А то что-то никто не заходит ко мне. Я тут рядом живу – через дорогу. Погости у меня. А когда будешь уезжать – так я тебе такой стол накрою, все самое лучшее приготовлю. И с собой дам.
– Спасибо, бабуль, – говорю я человеку, который давно находится в другой реальности. Но в этот момент мне кажется, что мы и правда на пиру.
Пресловутая оптимизация
 Ликвидация маленьких больниц и домов престарелых и создание огромных «больничных комплексов» ставит много вопросов.
Ликвидация маленьких больниц и домов престарелых и создание огромных «больничных комплексов» ставит много вопросов.
«Оль, да не дай Бог, пожар – и носить некому, а те, кто на колясках – их еще и силком вытаскивать придется. Не хотят они жить-то…», – будничным тоном говорит мне санитарка тетя Таня, когда мы вместе моем пол в мужском отделении.
Врачи, медсестры и санитарки здесь устали уже в самом начале рабочего дня, с первого взгляда на бесконечные койки и палаты, где ни боли, ни грязи не видно конца.
После поездки в Тверскую область пишу коллеге из «Старости в радость»:
– Побывала в Селижаровском районе. Там в Оковцах несколько лет назад закрыли маленький дом престарелых. Сопротивлялись вместе – администрация дома и руководство «Старости в радость».
Главный аргумент – определить стариков в огромный дом престарелых, значит, отправить их на верную смерть, – оказался неубедительным.
Уютный дом, с таким старанием создававшийся и поддерживаемый его сотрудниками, был закрыт. Стариков перевели в дом престарелых во Ржеве – четырехэтажное здание, триста человек проживающих в «возрасте дожития», по официальной формулировке наших социальных служб.
В Оковцы мы заехали посмотреть, что со зданием. Стоит закрытое – окна и двери целы, даже какое-то оборудование сохнанно. Как будто только вчера опустел.
А в Оковцах перемены – через деревню проходит отремонтированная дорога к местной достопримечательности – нарядной церкви XVII века в стиле барокко. Кстати, по пути из Селижарово в Оковцы проезжали вертолетную площадку – дикая неожиданность в такой глуши. Зачем она тут?
Представитель администрации в интервью местной газете рапортует, что перемены связаны в развитием туризма в Тверской области, поэтому и дорога сделана – правда, только через деревню, а три вертолетных площадки сооружены в деревне Гришкино «для высокопоставленных гостей, имеющих возможность прилететь на вертолете».
Стариков перевозят в большие дома престарелых на сотни человек, где большинство из них умирают в первые же годы, не выдержав переезда и казенной холодной обстановки. Такая вот у нас «дорога к храму».
Записи сделаны в разные годы в домах престарелых, палатах сестринского ухода и психиатрических больницах Московской, Смоленской, Тульской, Костромской, Тверской, Архангельской областей.
Иллюстрации: Оксана Романова