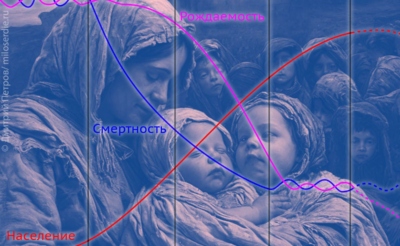«Бежать, бежать, бежать, бежать…» Асфальт и ошметки желтых листьев уходили под ноги, сливаясь в грязный капрон. Ступни перебирали метры тротуара, глаза выцепляли путь среди ног прохожих. Нельзя было смотреть вперед. Нельзя.
Я бежала в воображаемый серый низкий тоннель, через город, через ноябрь, через жизнь…
Когда дыхание сбилось и вернулось отвратительное, злящее чувство вязкой слабости, я остановилась. Хотелось сесть на корточки и кричать «мама-а-а», долго и хрипло. Но маме пока нельзя было знать. Пальто осталось в предбаннике кабинета. Я стояла на трамвайных рельсах в ста метрах от входа в метро. «Не убежать» — ответ был внутри меня, честный и принципиальный. Сначала замерзли руки. Нужно было вернуться, забрать пальто и направление…
В этот вечер меня не стало. Молодой, яркой, успешной журналистки такого же яркого и громкого мегаполиса, как и всей моей, подходящей этому городу жизни. Без объявления войны, без предчувствий и уведомлений, меня сдали как ненужную больше истории крепость. Двадцать шесть лет звездной лестницы оказались тупиковым пролетом. Меня обманули. Мне даже не дали последнего шанса убежать от себя. Новая я вышла из дверей частной клиники с желтым тонким листком направления, остатки ноябрьского дождя вторгались в строчки чудовищного докторского почерка и превращали их в жидкие каляки-маляки. После слов cancer secundo стоял знак вопроса. Весь смысл предстоящей недели был сжат в одном простом споре: между словом «secundo» и этим знаком.
«Девушка, зонтик надо?» — лысый малолетка с оттопыренными ушами немного странной формы и цыплячьей шеей из воротника монгольской кожаной куртки лыбился в тридцать два крупных зуба. Улыбка была и беспомощной, и уверенной одновременно. «Да пошел ты», — услышала я собственные слова как из наушников диктофона (кто знает, тот поймет). «Девушка! Не бойтесь!» — не обидевшись, беззлобно и даже ласково крикнул мальчишка в спину. И его голос прозвучал тоже странно, как будто в пустом зале пробовали микрофон.
…Молоденькая интерн с пачкой историй и ненужным фонендоскопом отстала после обхода от лечащего доктора — величественной и пожилой, с прямой спиной и раритетной фамилией «Моцартова». «Вы та самая, да? Ой, а я вас все время читаю-читаю… А хотите я к вам прямо завтра утром забегу, скажу гистологию, а?». На следующее утро она пробегала мимо палаты, кидаясь всякий раз будто со срочным делом к медсестрам или больным. Девочка. Почти моя ровесница, она еще не умела обращаться с той стороной жизни, которая выпадала решкой. «Анализы пришли. Надо быть фаталистом. Вы сможете. Я договорилась с радиологией, Вас возьмут прямо завтра», — прокурором стала сама Моцартова, продавая за серебро своего голоса правду. «Да, и вот вам жетоны, у меня лишние. Автомат между вторым и третьим».
Жетоны пришлось потратить на разговор с Антоном. Я чувствовала себя виноватой и взрослой. В моей оболочке, в моих пальцах, голове, подбородке поселилась Другая. Я рассматривала ее, пытаясь угадать ее жизнь и суть. Голые ноги из-под фланелевого халата в огурцах, пластырь на локтевом сгибе, неудобные скользкие шлепки — что-то чужое во мне перемещалось по лестницам с запахом пищеблока и хлорки, заходило в процедурную, собирало пакет с полотенцем. Что-то не жалкое, но удивленное, без прошлого и будущего, с каким-то метафорическим настоящим осматривало этот мир.
…Антон запил. Он пьяно и с детской судорогой в голосе рыдал в трубку. В новой мне было новое сердце. Оно жалело Антона с тем удивлением и отстраненностью, какими жалеют чужого малыша в магазине игрушек. Он плакал и что-то жалобно и невнятно рассказывал мне долго, на два жетона и потом еще на один. Когда кончился третий, я повесила трубку и поняла, что больше нет мужа. Он остался у той, другой, первой меня. Мне новой он приходился вдовцом. «Слушай, потяни там с мамой»,— попросила я тетку на последний, четвертый жетон.
…В Радиологическую меня везли на простой «скорой». По транспортировке. В редакции я все еще числилась в «отгулах», друзья считали, что я у мамы, мама… я не помню уже, что наплели маме. Новой мне не нужны были популярность, статус и прилагающиеся бонусы. Новая я была чужой и незнакомой этому миру. В этой новой жизни не могло быть ни врагов, ни союзников, ни друзей…
— Вы предупреждены обо всех рисках и последствиях лечения и теперь можете принимать решение, — моя новая доктор Марина произносила фразу, которая была привычной и почти обыденной формулой, символом, паролем.
— А я если я откажусь?
— Тогда от полугода до двенадцати месяцев.
— Чего?
— Жизни.
— А что потом? …Новая я улыбнулась.
Первый раз за новую жизнь. Смешному вопросу, ответ на который даже не нужно учить. И удивилась опять: тому, как губы почувствовали улыбку, как все просто рассказала Марина, каким чистым и правильным был непроизнесенный ответ.
— А… Вы не могли бы говорить мне «ты»?
— Угу. Если хочешь — поплачь, и пойдем рисоваться, только быстрее, медсестра уйдет.
Моя новая жизнь начинала обрастать первыми обстоятельствами: кушетка, Марина, новый запах и странное неизвестное мне действие — «рисоваться».
Разметка
Первый день лечения мне нравился. И новая жизнь тоже. Слово «рак» здесь не говорили, оберегая его от ушей и языка, как имя иудейского бога. Жизнь приютилась, будто в стеклянной витрине магазина. Чужие странные люди жили свою жизнь по обе стороны стекла, но теперь эта Большая Жизнь не касалась меня. Я могла видеть дождь и трогать стекло в том месте, куда попадали капли. Я могла жмуриться от солнца, встречающего стекло, я могла еще видеть чужую любовь, радость, спешку, победы, слезы… Большая жизнь не была больше моей жизнью, она смущала меня. Я с готовностью и чувством, похожим на удовольствие, отдалась маленькому и замкнутому пространству своего нового мира. Так потерявшийся в большом городе ребенок с радостью и покорностью обретает покой, вложив ладошку в руку милиционера или любого взрослого, готового подменить ему на это время исчезнувшую мать.
…Рисовкой называли щекотную и безболезненную процедуру: кожу над тем местом, которое предстояло облучать на первом этапе, расчерчивали яркой малиновой несмывающейся краской. Доктор Марина, что-то вымеряя и заглядывая в историю и справки, чертила мой живот. Спина прилипала к клеенке и трогательно отставала от нее, когда было щекотно.
— Ну вот, прямо сейчас и начнем. Не бойся. Это не больно… Забирайте! — последнее она уже почти крикнула медсестре.
Процедурная первого этапа была похожа на космическую лабораторию из фильмов 60-х годов. Купольные потолки, полумрак, стол посредине и аппарат, похожий на обсерваторский телескоп. И запах. Оказалось, что лучи пахнут болотно-зеленым озоновым оттенком, не похожим ни на какие другие запахи природы или синтеза, пахнут очень плотно и почти физически, пробивая «до мозгов».
— Вы будете здесь? — уже забравшись с ногами на высокую стол-кушетку, спросила я медсестру в самосшитой пилотке вместо обычного чепчика.
— Нет, я не могу оставаться… — ответила та с усталой доброжелательностью — так, словно отказывалась от пятого стакана чаю надрывно-радушных хозяев.
Сеанс показался легким и немного киношным. Аппарат гудел, как стиральная машина или большой кулер, что-то тяжелое вращалось и потрескивало наэлектризованной капроновой комбинашкой, никаких неприятных ощущений не было. Разве что легко кружилась голова, и внутри, между солнечным сплетением и кожей, серпантиновыми завитушками расползался холод. Мне было хорошо в этой процедурной с толстыми стенами. Я и облучатель, отличная пара.
— Ну вот, теперь покАпаемся в палате и можно спать. Когда к тебе приедут?
— Я позвоню… завтра, — мне не хотелось объяснять Марине, что с правдой для родственников я тянула до последнего…
Из процедурной в палату вели коридоры. На повороте, там, где стеклянные двери углом прижимались к стене и стекло становилось зеркалом, шпионски отражая события перпендикулярной рекреации, меня ждал сюрприз.
— Привет! — малолетка с цыплячьей шеей и смешно вывернутыми ушами улыбался вполовину своего худого скуластого лица.
— Ого… привет… — я не испытала к нему ни вражды, ни раздражения. Он был первым знакомым в моей новой жизни. Я… да, я обрадовалась. В белой майке и спортивных штанах он казался старше, чем в первую встречу. — А ты чего здесь?
— Того же, что и ты, — малолетка забавно наклонил голову чуть вбок. Из-за ушей к середине шеи шли малиновые полоски разметки. — Андрей!
Он все еще продолжал улыбаться, но глаза, серые, немальчишечьи глаза были глубокими и уставшими. Каким-то фоновым сознанием я подумала, что, видимо, должна удивиться такому совпадению и вообще тому, что помнила мальчишку, но уже не было ни сил, ни страстей…
— Прикольно… Лиза, — у меня немного кружилась голова и покалывало ладони, — я пойду, увидимся, да?
— Конечно.
Зимний сад
Мы встречались в зимнем саду. Он был прохладным, большим и совершенно пустым. Тропические деревья вырастали в нем невиданных размеров, с тяжелыми мясистыми толстыми листьями, стволы были крепкие и напитанные, лианы тугие, цветы яркие и полнокровные. Чудо природы имело вполне рациональное объяснение — сад примыкал к коридору, ведущему в боксы, поэтому в нем немного фонило. Мы сидели на деревянных скамейках, закутавшись в одеяла, и болтали ногами. Я уже потеряла вес и сосновые планки больно чувствовались даже через одеяло и толстый халат. Чаще мы молчали. А потом Андрей вдруг мягко и тихо отвечал на какой-нибудь мой незаданный вслух вопрос. Это называлось «думать вместе».
— А почему это со мной? — думала я однажды в зимнем саду. На самом деле я думала об этом всегда, с первого дня, но теперь вопрос оформился, созрел и готов был вырваться наружу. Если бы я так не боялась его.
— Не почему, а для чего… — Андрей не дал мне задать вопрос вслух.
— Для чего?
— Чтобы мы становились лучше. — Он всегда в таких ситуациях говорил «мы».
— Как это может быть? Я плохая?
— Нет, ты — хорошая. Все люди хорошие.
— Почему?
— Потому что они как Бог.
— Ты сумасшедший. Люди не могут быть как Бог. Тогда было бы только добро.
— Нет, это ты глупая. Бог дал нам свободу.
— А зачем Он нам дал жизнь? Чтобы мы сделали неправильный выбор?
— Нет, чтобы мы научились выбирать.
— Почему — я? Чем я хуже других? Почему заболела я?
— Ты — избранная. Тебе повезло.
— И тебе повезло?
— И мне. Но я — другое.
К началу третьей недели моя новая жизнь устроилась, приносилась, стала размеренной и ритмичной, обросла ритуалами. Утром — кровь из пальца, днем облучение, потом несколько капельниц и зимний сад, вечером — обязательные полбокала красного вина. Нам говорили, оно связывает радионуклиды, но до сих пор мне кажется, что так нас держали в «форме»… Мама приезжала каждый день и никогда не плакала при мне, а в приемные часы я обнаруживала в холле больницы все новых и новых людей из разных кусков моей прежней жизни. Я смотрела на них, как глядят телевизионный сюжет, в который вдруг попадает сосед или кто-то из домашних. Разрешили привезти одежду и велели выходить гулять. Правда, с каждым днем сил на болтовню в зимнем саду оставалось все меньше, а вино действовало все быстрее и крепче. В город пришли морозы, и о прогулках не могло быть и речи. Заглянувшая было в окно прошлая жизнь так и растворилась в морозной марле, не пробившись, не забрав меня и окончательно скрывшись по ту сторону телевизора… Пару раз она попыталась грубо и назойливо прорубиться пьяным Антоном, но только потревожила воздух и стекло.
Главными и настоящими людьми в этой жизни у меня были только двое: доктор Марина и удивительный мальчик Андрей. Марина оказалась честной и открытой. От нее я в подробностях знала, что происходит с моим организмом и к чему нужно готовиться, чего ждать и какие силы концентрировать в подчиненном болезни сознании. Андрей был странным, «тарковским» мальчиком … Он появлялся рядом, когда я была одна, и незаметно, пылью, диким зверьком, светом ускользал, как только наше общество тревожили. По виду он был сильно младше меня, но рассуждал с какой-то исключительной и книжной мудростью, так аутичные детки из тишины своего мира вдруг изрекают знания и истины, несообразные их возрасту и воспитанию.
Меня начинали готовить ко второму этапу.
Боксы
Через зимний сад шел «страшный коридор». На самом деле он был обыкновенным больничным коридором и весь «страх» заключался в том, что приводил он к специальным боксам. Комнаты со стенами в метр толщиной и тяжелыми, задвижными дверями, которые через шлюзы закрывали вход, прилепились к старенькому кирпичному отделению радиологии со стороны леса, и были построены по последнему слову строительной техники и мер безопасности. В них проходил второй, ударный этап лучевого лечения. Мы его так и называли — «пройти боксы». Пациентов к этому этапу готовили долго, в первую очередь психологически. Трижды за этап, по одному разу в неделю, больной уходил на двое суток в этот коридор, где к опухоли подводили специальный аппарат. Сорок восемь часов предстояло лежать неподвижно. Прайс на разминку отекших мышц или нечаянное движение во сне был понятным и очевидным: внутренние ожоги. Избежать стопроцентно их нельзя было в любом случае, но многократно снизить было в воле пациента.
Вечером накануне первой процедуры мы опять сидели в зимнем саду, я старалась не смотреть в сторону коридора. Думать об отвлеченном не получалось, и проще было говорить о том и о тех, кому хуже, чем нам.
— Андрюш, почему дети умирают?
— Все умирают.
— Я не про всех. Детей жалко. Им за что?
— Смерть не наказание.
— Ну хорошо, почему они страдают, они в чем-то провинились? — иногда меня начинала бесить его манера отвечать на такие вопросы.
— Узнаешь потом.
— Когда? Опять в той жизни? Они умирают в этой.
— Никто не может знать заранее, от чего спасет смерть.
— Слушай, тебе что, их не жалко? Нет?!
— Я их люблю.
— Любить — значит жалеть.
— Любить — значит верить.
Утром Андрей меня не провожал, он вообще никогда не находил меня утром, когда в отделении движение, суета и люди. Мне дали маленький, пожелтевший от автоклавов халат на завязках, «стерильные» дерматиновые тапки, пакетик мелких сухариков и бутылку воды. Медсестра из отделения проводила до зимнего сада.
«Я как будто бы сталкер», — я слышала свои шаги, растягивая каждый из них, не боясь, но понимая, что вот она такая — моя новая жизнь. Быстрым шагом мне навстречу шел человек в темной одежде, через несколько мгновений я поняла, что это молодой священник.
— Девушка, я заблудился, я из горбольничного храма.
— Благословите, батюшка, — откуда-то изнутри, не из меня прежней, вырвалась странная мне фраза и ладони сами сложились в лодочку, как делают старушки в церкви. Священник смутился — то ли тому, как высоко и нервно я почти выкрикнула, то ли тому, что понял, почувствовал, куда и зачем я иду.
— Бог благословит, милая, — он положил мне ладонь на темечко, — иди, иди.
— Там же тупик, батюшка, — сообразила я.
— Ничего, Бог по силам дает, — ответил он невпопад и быстро пошел в сторону зимнего сада.
Берег
— Пойдем, Лиза, идем, — Андрей тряс меня за руку, смешно подергивая плечами и кусая губы.
— Я не могу, оставь меня.
— Пойдем. Мы разбудим всех. Где твоя уличная одежда?
— С ума сошел! Я до туалета еле дохожу.
— Надо, пойдем. У нас полтора часа.
На самом деле мне было все равно, лежать или вставать, идти или остановиться. Тошнота и боль не отпускали ни во сне, ни в разговорах. Сил хватало на несколько шагов. Андрей одевал меня, поднимал и тащил из палаты. Веса во мне почти не было, но зимняя одежда прибавляла лишние килограммы. «Битый битого в рай везет», — меня хватало на сарказм, последнюю из оставленных мне облучением эмоций. Лучи выжигали не только опухоль. Они жгли нервы и сосуды, слизистую оболочку внутренних органов и кровь. Они прожигали и высушивали душу. Обостряли обоняние и зрение, оголяли рецепторы и разрезали эмоции. Побеждая одно зло, они брали плату без скидок и приносили другое зло: не смертельное, но пожизненное.
У приемного покоя стояла старая праворульная «Тойота» с водителем.
— Ты что? Где ты ее взял?
— Поймал. Ты ведь хотела, мы едем к реке и соснам.
— Я тебе говорила?
— Ты вспоминала. Я почувствовал.
Через двадцать минут мы были на обрыве, там, где шоссе плотно и по краю огибало обрыв большой замерзшей реки. Мы оба устали — и стояли, прислонившись к старой толстой сосне. Пытались упереться друг в друга плечами, но ставшая большей на пару размеров одежда мешала, комкалась в рукавах и проймах.
— Андрюх, слышишь снег? Меня папа учил слушать снег.
— Слышу…
— …Я не хочу больше лечиться.
— А что ты хочешь?
— Умереть. Мне больно. Я устала.
— Ты сказала глупость.
— У меня болит все. Мне сожгли слизистые. Меня тошнит и рвет почти без перерывов. Мне больно ходить, сидеть, спать, жить. Я боюсь третьего бокса. Я не могу так больше.
— Нужно бороться.
— Кому нужно?
— Тебе и Богу.
— Андрюша, Бог дал мне болезнь, от которой умирают. Значит, это Его решение.
— Глупость. Вся жизнь — это болезнь, от которой умирают.
— Пусть наш Бог сделает со мной что хочет. Я не буду противиться. Я уйду.
— Бог привел тебя сюда. Он сделал Свой выбор. Он дал тебе шанс и другую тебя.
— Бог злой?
— Бог милостлив. Слишком любит тебя, чтобы позволить погибнуть.
— Мое время еще не пришло?
— Бог знает…
Кларнет
Как ни странно, из третьего «бокса» я выползла на своих ногах. Я привыкла к боли, которая обняла все тело, каждую косточку, каждый сосуд. Боль стала моей улыбкой, моим дыханием, сущностью.. Так гриб-паразит, подчинив симбиозу какую-нибудь ольху или рябину, становится нутром и органом хозяйки. Я окончательно обжила свой новый мир…
Андрей не встречал меня как прежде, после двух первых «боксов» на нашей скамейке в зимнем саду. Не было его и на следующий день.
Через два дня Марина сказала, что, кажется, мы победили. Опухоль визуально исчезла, анализы показали мощный прогресс, и остается недолгий последний этап облучения, который закрепит успех. Если все будет «правильно», то «мы получим ремиссию» — Марина сияла и была совсем не похожа на взрослого доктора.
Между широкими рейками скамьи в зимнем саду лежала записка, на клочке из истории болезни. «Иди на чердак» — неестественно красивые буквы были написаны точно по строке. Я никогда не видела его почерка, но внутренним знанием понимала, от кого и кому…
Чердак был теплым и сухим. Мы там бывали несколько раз, однажды пытались расколоть кокос, который передал кто-то из моих читателей, потом уходили болтать, когда в зимнем саду была генеральная уборка и комиссия облздрава.
В дальнем углу, под круглым, похожим на самолетный люк окном сидел Андрей. Он был в черных брюках и пиджаке, белой накрахмаленной рубашке с расстегнутым воротом, который чересчур свободно облегал его худую шею, но без носков и в больничных тапках с номерком на внешней стороне. У его ног лежал раскрытый чемоданчик, с какими-то черными трубками.
— Что это?
— Кларнет.
— Зачем? Почему ты в костюме?
Андрей не ответил, но стал медленно и отрешенно доставать черные трубочки, собирая из них инструмент, подгоняя детали, закручивая какой-то железный ободок.
— Трость надо размочить, — он вынул изо рта золотистую щепочку и вставил ее под железный ободок.
— Ты умеешь играть?
— Каждый из нас умеет все. Просто мы не верим.
Он встал под круглым окном так, что в потоке пыльного живого света была пронзительно видна вся его худоба и неестественная утонченность, а оттопыренные уши стали совсем прозрачными и розовыми, как тонкая слюда. Кларнет звучал женским, грудным и чистым голосом.
— Это «Северная звезда», — мальчишка отнял мундштук от бледно-розовых, болезненно перламутровых губ. — Но она с Востока.
— Где ты был, Андрюш, почему мы здесь, сегодня какой-то праздник?
— Ага, праздник. Люди забыли: каждый день начинается в праздник.
— Андрюш, без метафор, где ты был?
— Я отмечал День Любви.
— Что это значит?
— Люди потерялись, потому что забыли День Любви.
Он заплакал, не рыдая, не вздрагивая, не дергая своей смешной тонкой шеей. Он плакал глубоко и чисто, слезы катились по его мальчишескому носу, падали на тыльную сторону скрещенных ладоней, на чемоданчик и больничные дерматиновые тапки.
Андрюх, все хорошо, это лучи, просто лучи, ты понимаешь? Нас предупреждали, это пройдет, Андрюха.
Через месяц меня стали готовить к выписке. Каждый день приезжали друзья, родственники, иногда даже не очень близкие люди, и я проводила с ними все свободное от процедур время. Боли с каждым днем становились меньше, я просила приносить мне газеты, журналы и рассказывать последние сплетни журналистской тусовки. Перед выпиской Марина вопреки всем правилам предложила мне на пару часов в день ходить на работу в редакцию, не дожидаясь окончания амбулаторного лечения. Я слышала, как ее поздравляли коллеги, да и сама всякий раз ловила одобрительные улыбки докторов отделения, словно это я, а не Марина справилась с моей болезнью.
После той встречи на чердаке с Андреем мы виделись редко. Я появлялась в зимнем саду на несколько минут, вырванных из свиданий с друзьями. Но и эти минутки, если мне удавалось обнаружить Андрюху, были для меня кислородной подушкой, и смыслом, и воздухом, и светом.
Я забежала в зимний сад за час до выписки. Мальчишка сидел на своем краю скамейки, наклонив голову на плечо и обняв худенькие колени. Он смотрел на меня своими недетскими, пронзительно добрыми глазами, спокойный и мирный, встречая взглядом каждый мой шаг. Он был бы похож на ворона, мудрую от рождения птицу, если бы только ворон был облачно серым и таким невыносимо живым.
— Андрюш, знаешь, я поняла, как люди становятся живыми…
— Хочешь меня о чем-нибудь спросить вслух?..
— Тебя спасут?
Он улыбнулся и стал совсем прозрачным, так что свет, казалось, проходил через ключицы, оттопыренные уши, редкие волосики, преодолевшие яд химий и облучения, смешивался с малиновыми черточками на тонкой шее и отражался в серых его глазах.
— Разве ты не поняла?
Тонкими, но сильными пальцами кларнетиста он обхватил мою голову и поцеловал меня в лоб.
— Как мне тебя искать?
— Я всегда здесь.
— Андрей, кто ты?
— … у тебя все будет хорошо. До свидания.
Больше я никогда не видела его. Он не оставил ни телефона, ни электронной почты.
Через год я уговорила Марину посмотреть координаты в историях болезни. Марина позвонила мне вечером и сообщила, что на первом этаже, да и вообще во всей больнице в последние годы не лежал человек такого возраста и имени.
Я приехала на следующий день, говорила с врачами, медсестрами и нянечками, которые помнят не только каждого пациента нашего «долгоиграющего» отделения, но и кто к кому приходил, что любил поесть и как переносил процедуры. Никто не помнил Андрея…
— Ничего, дочка, так бывает после лучей-то. Эта у тебя пройдет. Пройдет. Все хорошо, — провожала, гладя меня по спине и плечам, нянечка тетя Ира. Я запнулась о свернутую под порогом тряпку, и вдруг, в отражающем темном стекле двери боковым зрением увидела тонкую шею, контур лысой головы с оттопыренными ушами…
«Андрей!» — коридор был пуст…
…тихая, мирная радость осела солнечным теплым комочком где-то внутри — «между солнечным сплетением и кожей»…
Вот ты какой, Ангел-хранитель, — я поняла это очень просто и спокойно.
Наталья ЛОСЕВА
Рисунки Натальи КОНДРАТОВОЙ