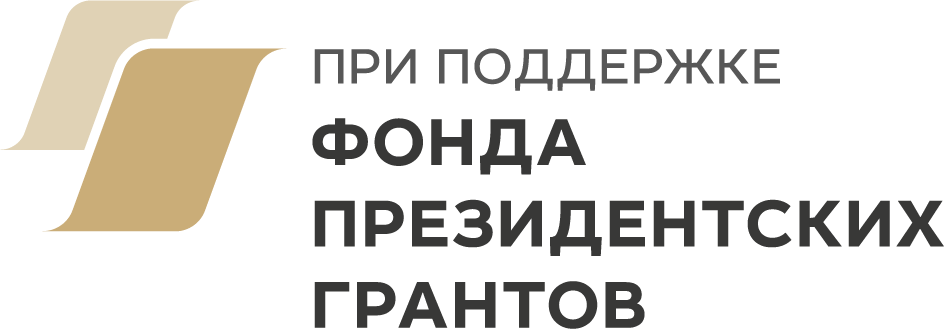Константин Седов, первый больничный клоун в России, руководитель АНО «Больничные клоуны», приходит в больницы к «тяжелым» детям, в онкологические отделения.
Играть легко и бережно
– Вот лежит ребенок после химии, а тут какой-то раскрашенный дядя. До шуток ли больному ребенку?
– Даже если ребенок в спутанном сознании, он может хотеть контактировать. Взрослые, например, после химиотерапии, видеть никого не хотят. А дети… Если даже ребенка тошнит после химии, он может хотеть играть, представляете! И мы, конечно, играем. Игра – язык детей.
Но тут все глубже: дети, даже когда им плохо, открыты к контакту, причем готовы не только принимать (подбадривание, обнадеживание), но и отдавать.
Да ведь и сам клоун персонаж не однозначный. Не просто хохотун какой–то. Клоун не приходит с играми или красками – он приходит быть рядом, общаться, искать контакт. Общение, взаимодействие, интерес друг к другу, – неважно, болен человек или здоров, слабый или активный, – это сама жизнь.
Все это можно назвать реабилитацией: на те пять–семь минут, что клоун проведет с ребенком, ребенок отвлечется и ему станет легче. И мы готовы играть в игру, которую предложит ребенок, в его ритме, в его целях. Клоун – такой партнер по игре.
А раскрашен клоун в больнице минимально – нос, максимум глаза. Костюм тоже не карнавальный – неяркий. И этот неяркий персонаж очень привлекает внимание ребенка – он его в больнице не ожидает.
Танец с мамой в больничной палате

Чтобы зайти в палату и начать игру, нам нужно три «да» – от врача, от мамы и от самого ребенка.
По палатам клоуны ходят парой. Но если ребенок маленький и пары взрослых для него много, работает кто-то один.
Бывает так, что и одного взрослого для ребенка много – ребенок маленький, до трех лет, и разговаривать со взрослым ему тяжело – взгляд у взрослого довольно тяжелый. Тогда клоун достает перчаточную куклу, и ребенок общается с ней.
То есть, мы создаем ребенку собеседника, максимально близкого к нему самому.
– Есть ситуации, когда вы не будете общаться с ребенком?
– Мы сразу уходим, если ребенок начинает общаться с клоуном из уважения к взрослому, – когда зажат, не проявляет инициативы, общается через силу. Или если ребенок боится, плачет…
Если же у ребенка высокая температура, мы в палату не заходим вообще – у него может быть инфекция, и тогда это опасно для других детей.
И надо просто понимать, что ребенок может, а чего – нет. Например, ребенок без руки не может похлопать в ладоши, но может похлопать рукой по колену – и подстроиться под его возможности.
– А родителям ваша работа что дает? И можете ли вы включить родителя в игру?
– Во-первых, пока клоун играет с ребенком, родитель может отдохнуть. Может взглянуть на своего ребенка другими глазами. Может включиться в игру так, чтобы это было удобно и комфортно для всех.
Если мама замученная и издерганная, но нас пускает, мы работаем с ребенком. Если она готова подключиться, стараемся ее расслабить. Бывало такое, что мы с детьми пели песенки, а мама, глядя на это, плакала. Бывало, что мамы просто отключались на несколько минут и отдыхали.
А однажды ребенок был в реанимации, а мы с мамой танцевали в палате.
– Подойти к родителю в такой момент, видимо, не просто?
– Ну, клоун же – немножко особое существо, у него есть своеобразный «пропуск-вездеход». Я могу постучать в любую дверь. Если скажут: «Войдите», – я войду. Скажут: «Отвали», – пойду себе дальше. Я знаю, что «отвали» – это обида, но не на клоуна. А если я найду контакт, человеку хоть на миллисекунду станет легче.
При этом на возгласы «как ты могла танцевать в такую минуту?», – мне, честно говоря, глубоко наплевать.
Я работаю с эмоцией

Я включаю индикатор эмпатии и чувствую – можно сейчас с мамой потанцевать или нельзя? Нужно? Не нужно? Что можно у нее спросить? Понимание этого приходит исключительно с опытом.
Мы сами убеждаемся и сейчас на тренингах учим молодых клоунов, что свое рацио иногда необходимо отпустить. Есть ситуации, когда верен самый первый импульс. Клоун живет в большей степени эмоциями, он развивает в себе чувство эмпатии и понимание другого. Все это помогает ему подойти к любому человеку. И сам клоун в этот момент не думает, как его примут.
У меня есть знакомый, он прыгал с тарзанки. Так вот тренер, который поставил его на вышку, сказал ему: «У вас есть пять секунд, чтобы собраться и прыгнуть. Дальше каждая секунда будет отдалять вас от прыжка».
Поэтому клоун смотрит на человека две–три секунды и принимает решение.
Правила безопасности

– Болеющие, страдающие дети, – не всем по силам. Что вы делаете с вопросами: «почему, кто виноват» и пр. Как справляетесь с тяжелыми чувствами?
– Мы работаем командой или парой, это позволяет тяжесть разделить. Когда работаешь в паре, напрягаешься в два раза меньше – где–то ты можешь переключить внимание на партнера, в другом месте ты его прикроешь.
Если ребенок маленький, можно тоже работать парой, просто один клоун будет работать с мамой. Или из–за двери выйдет кукла, так что мы вообще в палату не войдем. Это тоже помогает не расстраиваться.
Очень помогает мысль, что у тебя впереди еще 10–20 палат, и ты здесь на время, ты не знаешь прошлого и будущего ребенка, а видишь только его нынешний момент.
И кроме всего, у нас есть психолог, который работает с нами как супервизор.
– А если вы вдруг к кому–то из детей привязались?
– Тут нужно держать границы: мы не даем свои личные телефоны, профили соцсетей. Общаемся, только когда приходим в отделение как клоуны.
– И все же, как это совместить? Вам нужно быть достаточно открытыми, когда вы общаетесь с ребенком, и в то же время вы ставите границы, при этом видите, что из недели в неделю меняется его состояние – он слабеет, ухудшается.
– Здесь помогает тот умный опыт, который выработали до нас люди многих помогающих профессий. Мы работаем с ребенком 15–20 минут два раза в неделю, причем в следующую неделю в больницу может пойти другая пара клоунов – это нас немного защищает.
Всего клоуны работают в больницах восемь дней в месяц, это позволяет не нагрузиться и переработать впечатления в творческую энергию. Да, есть люди, которые эмоционально цепляются за сложные случаи, я сам был таким, когда начинал. Но сейчас понимаю, что нужно за собой следить, не открываться депрессии, улыбаться чаще.
В РДКБ я был клоуном, а еще волонтерил похоронным агентом

– Были ли случаи, когда дети уходили на ваших глазах?
– Два раза. Один раз я провожал родителей до комнаты, где они прощались с ребенком, сам еще в гриме, нос снял, конечно.
Это был мальчик–подросток. Сначала он лежал в палате, и мы с ним подружились, я к нему приходил как клоун, мы вместе играли на гитаре. Потом ему стало хуже, он перестал говорить и только писал на планшете, потом его перевели в реанимацию, я приходил туда.
В какой-то момент ему стало совсем плохо, я вышел, а через полчаса врачи сказали, что он ушел. Потом попросили позвать родителей, и я их провел. В этот момент ты просто не чувствуешь себя клоуном, вот и все.
Переживать такое – врагу не пожелаешь. Если оказываешься в подобной ситуации, лучше всего отключаться и просто выполнять функционал – присутствия, поддержки, опоры.
Так я двенадцать лет назад начинал волонтером при храме в РДКБ – работал клоуном, а параллельно приходилось иногда оформлять тела, возить гроб из морга в аэропорт, сопровождать родителей.
За два года такое было всего 10-15 раз.
Тогда я понял, что лучшее, что смогу сделать – просто выполнить за родителей часть дел, чтобы их поддержать. А дела там повторяются, как в скрипте: тело, оцинковка, справка.
– При таком сочетании обязанностей какой=то сверхсмысл в клоунском присутствии в больнице вы для себя открыли? Нужно быть солнцем и батарейкой, чтобы дети подзарядились?
– Нужно быть честным – это тоже учит детей, как себя вести в этом мире. Иногда солнцем, иногда, если ты устал, – «я – уставший клоун, но готов поиграть в твою игру». Дети – тоже батарейки, в конце концов, у нас есть приемы, с помощью которых можно зарядить себя, не разрядив при этом ребенка. Это важно. Точнее будет сказать, что у тебя есть где–то бензин, но нет искры, без этого нет зажигания. А у детей искр всегда полно.
На практике все это выглядит проще. Допустим, я устал, но замены нет. Значит, я иду вместе с партнером работать, но основное внимание детей он возьмет на себя, а я буду «клоун-зануда», «гномик Вонючка». Партнер понимает, что ты на нуле и работает с этим – ты отвечаешь, стараешься его не подставить, но не больше.
Суровые реаниматологи и нежные старшие сестры

– А как врачи относятся к клоунам?
– Лет десять назад относились с осторожностью. Сейчас относятся нормально – доверие растет. Если учесть, что процентов семьдесят врачей у нас женщины, мы вполне вписались в их протоколы лечения.
Конечно, врачи, как и все люди – разные, под всех приходится подстраиваться индивидуально – под людей, под настроение, под ситуацию.
– А под кого сложнее всего подстроиться?
– Наверное, под взрослых реаниматологов – они такие прожженные мужики. И под старших сестер – они милые и хорошие, но очень строгие, потому что у них много ответственности. Но это и интересно – подстраиваться под таких людей.
Подстроиться для нас – это не «победить», «расколоть» и не прогнуться, – у нас нет таких терминов. Это найти контакт, может быть, тему для разговора, увлечь, заинтересовать.
Вообще клоун видит не профессию, не диагноз, не пол и не возраст – он видит человека. Видит то, что человек делает именно в данный момент. И начинает с ним взаимодействовать.
При этом нельзя сказать, что мы такие совсем уж мягкие. В контактах с детьми мы реже проявляем инициативу, потому что хотим, чтобы они проявляли ее сами. Детям это полезно и терапевтично. Там общение, наверное, идет 50 на 50. А со взрослыми инициатива, конечно, наша.
Слишком дорогой волонтер

– Чем для вас различаются состояния «я с носом» и «я без»?
– Конечно, там есть элемент игры, элемент маски. Но больше – это такая эмоциональная частная жизнь. То есть, «ты с носом» – это тоже ты, но ты заряжен на игру, внимание, реакцию на ребенка. То есть, это такая очень живая, хотя и энергозатратная, позиция людей, которые находятся здесь и сейчас.
Мы даже специально учились у голландцев этой технике «be and shine» – «быть и сиять». То есть, ничего не предлагать, ничего не нарушать, просто впитывать и сиять.
– У нас половина людей живет в прошлом, другая половина – в будущем, которое никогда не наступит. А вы – про невозможное Da Sein.
– Я это понял и другим объясняю так: «Ребята, вы зашли в палату. В этот момент вселенной в этом пространстве есть только вы и ребенок. Ну, может быть, мама. И только вы сейчас можете сделать что–нибудь, чтобы ему было чуть легче, чуть радостнее, чуть веселее.
– Но это – очень сложно.
– Да. И поэтому, не в обиду волонтерам, мы стремимся к тому, чтобы работа клоуна была профессиональной, чтобы она оплачивалась. На самом деле это – сложная и морально, и физически работа. Эту работу нельзя доверять просто волонтерам. Волонтер, в конце концов, просто сгорит или ему надоест, и он уйдет.
Волонтеры хороши на проектах, которые имеют начало и конец. Волонтерство нужно людям на время: они что-то получают, что–то отдают и идут дальше – получается текучка и это нормально.

Клоун – такая профессия, навыки которой нужно вкладывать очень долго – полгода клоун обучается, еще полгода стажируется, еще два года – набирается опыта. Это очень серьезный отбор.
Например, в школу клоунов, которая была у нас три года назад, из ста анкет мы отобрали 25 человек, обучение начали 16, закончили 11, работают из них сейчас 10.
Если человек, подготовленный с таким трудом, в итоге уходит, это очень сильно нерентабельно.
– А вы можете сходу определить человека, который отсеется?
– Нет. Очень многие ребята меня удивляли. Хотя другие и огорчали тоже. Я могу только определить человека, который мне не нужен. При этом я никого не берусь судить. Есть, например, много самовлюбленных людей, которые прекрасно с нами работают.
Другое дело, если люди токсичные, если они не умеют разделить наши ценности и вписаться в коллектив. На детей такие особенности обычно не влияют, они проявляются, когда человек без грима и расслабился и выливаются на коллег и партнеров. Недавно вот я уволил двоих – мы просто вздохнули свободно.
Фото: Ефим Эрихман/»Дом с маяком»